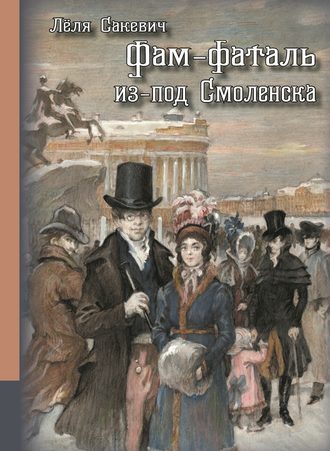
Лёля Сакевич
Фам-фаталь из-под Смоленска
– О, я бы многое дал, чтобы быть смелее, Софья Михайловна! – с придыханием прошептал он, стоя перед ней на коленях. Одной рукой он сжимал ее пальчики, а другой путался в ее юбках, что-то ища. – Что я скажу вам? Вы всегда так строги со мной… Несколько раз я собирался сказать вам, что чувствую, но вы одним словом заставляли меня молчать. Вы верно меня понимаете… Я… Боже мой! Я… Люблю вас, скажите, любим ли я? Не опасайтесь меня, говорите со мной откровенно, как с другом.
Он сказал это, наконец! Такой нерешительный – как же долго он собирался с духом. Софи, горя как маков цвет и пряча глаза, словно благовоспитанная барышня, пробормотала:
– К чему все это, Петр Григорьевич? Пьер… Мы с батюшкой скоро уезжаем…
Каховский отскочил в сторону, вскричал на всю аллею:
– Нет, вы не уедете! Неужели вы считаете меня бесчестным негодяем? Я никогда бы не посмел воспользоваться… Вы, Софья Михайловна, вы все самое чистое и невинное, что есть в моей глупой жизни! Вы – то, что заставляет биться мое сердце! И не думайте, что это слова из французского романа, нет! Это слова моей души, без остатка принадлежащей вам…
Отчаянно обмахиваясь веером, Софи вновь показала себя благовоспитанной барышней и картинно надула губки. Кстати, насчет французского романа Каховский заметил верно, иногда там встречаются вполне достойные обороты. К примеру, такие, как этот:
– Признаюсь, не я смею верить вам. Зачастую молодые люди говорят все то, что вы мне теперь сказали, не имея другой цели, как посмеяться и после рассказать всем своим друзьям в перерыве между бокалом вина и партией в штосс. Я не желаю быть посмешищем для кого бы то ни было.
Пьер едва не застонал. В негодовании заметался перед девушкой, вновь кинулся к ее ногам:
– Вы меня убиваете, Софья Михайловна! Ради бога, не мучьте меня, ведь вы не такая, вы проницательная и ярко чувствующая! Неужели вы не видите, насколько я искренен перед вами?! Скажите же, что вы чувствуете, будьте уверены во мне!
Софи сдалась. Она провела ладонью по залитому слезами лицу Пьера, дотронулась до густых волос, пальчиком подкрутила взъерошенные усы. Не лукавя больше, с легкой улыбкой прошептала:
– Пьер, милый! Вы довольно благоразумный юноша. И если бы вы сами не заметили, что я чувствую, то не решились бы сказать мне о ваших чувствах. Да, я люблю вас…
Каховский дико расхохотался, подхватил девушку на руки и бешено закрутил.
А потом это случилось. Да, он поцеловал ее – ласково и нежно – так, как никто в жизни не целовал…
Прошла вечность, когда Пьер снова смог разговаривать.
– Софья Михайловна… Сонечка, любимая, осчастливьте меня еще больше, выходите за меня замуж! Нынче же! Нет, сегодня! Нет, сейчас, сию же минуту!
– Боюсь, вряд ли батюшка позволит, – пролепетала девушка, еще не придя в себя окончательно. – Убедить старика будет проблематично…
– Я сейчас же иду к нему! Ведь он ваш отец – он не посмеет противиться вашему счастью, любимая!
Схватив Софи за руку, Каховский побежал по аллее. Девушка, с трудом поспевая за ним, проблеяла:
– Пьер! Постойте же, отец сейчас дуется на вас, что-то ему не понравилось в вашей прошлой беседе. То ли отношение к французским литераторам, то ли ваши свободолюбивые разговоры… Вы же знаете, когда он не в духе – с разговорами к нему лучше не подходить. Не лучше ли будет прежде переговорить с дядей и тетей?
– Там решим! Идемте скорее, милая!
* * *
Петр Григорьевич Каховский, дворянин двадцати пяти лет, отставной поручик, прежде никогда не задумывался о том, что есть счастье.
Отчаянно пытаясь чего-то добиться, но постоянно обжигаясь и спотыкаясь, он проживал свою жизнь бессмысленно и бестолково. Невысокие взлеты чередовались с глобальными провалами, глупые жеманницы – с продажными девицами; пустоту в горячей, пламенной душе лишь изредка случалось заглушить вином или рассуждениями о свободе Отчизны. Увы, лишь рассуждениями! Пока даже предложение Пассека было не ко времени – заговорщики отчего-то выжидали до лета двадцать шестого года… Все это было лишь суетностью, не способной наполнить глубочайший сосуд души Пьера. Сосуд, способный вместить в себя огромный, просто невероятный объем самоотверженности, преданности и, разумеется, безграничной любви – всего того неиспользованного, на что был способен этот человек.
И вдруг в один момент все изменилось! Появилась Сонечка. К беспутному, никчемному Пьеру явился светлый ангел – то, ради чего стоило дышать, жить и бороться. И – невероятно, просто непостижимо! – случилось так, что она тоже полюбила его. Того, кто давно махнул на себя рукой. В это не верилось, но это действительно было так. Ведь он чувствовал в своей ладони ее ручку, видел ее сияющие неподдельной радостью глаза, помнил вкус неопытных губ…
Он чувствовал, что ради этой женщины готов пойти на все, что угодно. На любую глупость – спрыгнуть с недостроенной Исаакиевской церкви, украсть алмаз «Орлов» из царской сокровищницы или даже зарезать царя. Лишь бы Сонечка была рядом и улыбалась той улыбкой, от которой ноги отрываются от земли…
Быть счастливым в этот момент казалось для Пьера так естественно, как дышать. Он вдруг заметил вокруг себя яркий просыпающийся день, чириканье птиц, перекошенные физиономии глупых слуг, шарахающихся от влюбленной пары – все это было замечательно.
С хохотом, уже никого не опасаясь и не стесняясь, держась за руки, Софи с Пьером промчались по лужайке у входа в хозяйский дом, вбежали на высокое, украшенное помпезными колоннами крыльцо, и без приглашения ворвались в покои Пассека.
Генерал был по-утреннему небрит и не убран – из расстегнутого ворота сорочки выглядывала покрытая седой порослью грудь, бакенбарды взлохмачены, бордовый халат, отороченный золотым кантом с кистями, завершал образ только что вставшего с постели человека. Петр Петрович, бодро напевая «Прум-пум-пум» и «Мальбрук в поход собрался», прохаживался по кабинету. В одной руке он держал чашечку с черным турецким кофием, в другой – бокал с крепкой наливкой.
– Добренькое утрице! – весело воскликнул он, увидев на пороге Софи и Пьера. – Заходите, заходите, мои ранние пташки! Никита меня таким вкусным кофием балует, м-м-м! Это просто прелесть! Угощайся, дорогая Сонюшка, – барским жестом он указал на пузатый серебряный кофейник.
Пьер решительно подошел к генералу, выхватил у него из рук недопитый бокал, одним махом выпил настойку. Усадив опешившего Пассека в кресло, внушительно сказал:
– Петр Петрович, нам с Софьей Михайловной необходима ваша помощь. Мы любим друг друга и собираемся пожениться. Будьте так добры, замолвите перед Михаилом Александровичем словечко за нас. Видите ли, Софья Михайловна никак не может выйти замуж без отцовского благословения.
Генерал громогласно захохотал – его чрево без поддерживающего корсета заколыхалось под халатом, словно огромный пузырь.
– Ха-ха! Отличная, просто отличнейшая шутка! Потрясающе! Ха! Бесподобно! Пьер, мальчик мой, я давно так не смеялся! Обязательно нынче же уколю подобным образом Мишеля! Ха-ха! Посмотрим, как старик из себя выйдет! Пьер, давай-ка еще настоечки, и расскажи мне еще что-нибудь столь же веселое! Может быть, анекдот про Крылова?..
Сзади послышался шелест батистового платья – кузина, кутаясь в шаль, заглянула в кабинет и встала на пороге. Лицо ее было напряженно испуганным. Казалось, она не верила в то, что происходило перед ее глазами.
Каховский гордо выпрямился, сложил руки на груди.
– Это не шутка, генерал. Мы действительно женимся, это дело решенное. Ваша же задача помочь нам, если, разумеется, вы желаете счастья для своей племянницы.
Пассек выпучил глаза, булькнул и побагровел. Схватившись за грудь, выпил настойку, вскочил и разразился такой длительной отборной бранью, какой от него еще не слышали. Жена, в подобных ситуациях постоянно говорившая: «Петр, ты несносен», – нынче лишь побледнела. Качая головой, прошептала:
– Я знала, я же видела, что все к этому идет! Как я могла допустить…
Но тут Софи, до сего момента витавшая в облаках и взиравшая на Каховского с видом кролика, страстно полюбившего кобру, недоуменно фыркнула и взмахнула руками:
– Не стоит драматизировать, мы же не на войну уходим и даже не стреляемся – мы всего лишь женимся! Это делает каждый первый, ничего страшного в этом нет! Господи, свадьба – ведь это же праздник, это такая радость! Фата, новое платье, цветы. Море гостей, пышный выход… Тетя, дядюшка! Ну что же вы так расстроились?
Пассек злобно замахал пальцем перед ее носом, язвительно крикнул:
– Я тебя так любил, так верил в тебя, а ты? Ты специально это подстроила! Хочешь, чтобы Мишель, этот старый брюзга, помер от разрыва сердца прямо тут, в моем доме?! Софьюшка, душа моя, так нельзя поступать с близкими людьми… – он скривился, шмыгнул носом и кивнул головой жене, – Натали…
– Пошли со мной, дорогая, – кузина бросила убитый взгляд на Пьера и увлекла Софью за собой из кабинета, – дальше тебя не касается. Мужчины сами все решат…
Она увела недоуменную девушку за собой, что-то шепча на ухо. Вскоре из коридора послышался возмущенный крик Софии: «Отказ? Как отказ?! Я же люблю его!» Потом все стихло, и насупленный Пьер взглянул в бордовое лицо откинувшегося в кресле генерала.
– Что значит сия театральная постановка? С какой целью вы подняли голос на Софью Михайловну? Отчего же молчите? Не хотите помогать – так и скажите, я сам переговорю с Салтыковым.
С тяжелым вздохом Пассек поднялся с кресла и обнял за плечи Каховского. Совершенно беззлобно и даже в чем-то оправдывающе, он произнес:
– Ты всегда был не в меру шустрым юношей, Петр. Я видел, как ты возмужал у меня на глазах, потому отлично знаю, какой ты человек и на что способен. Взрывной и вспыльчивый, неуживчивый и пасмурный – во всем не пара для жизнерадостной Софи. Ладно, я могу допустить, что ты увлекся прелестями сей дриады, здесь, право, есть чем увлечься, не спорю… Но не настолько же?! Вот удумал – жениться! Да не на ком-то, а на самой Салтыковой!
– Петр Петрович, – отстраняясь от толстяка, процедил сквозь зубы Каховский, – коли вы не собираетесь мне помогать, то позвольте откланяться, я сам решу свою проблему. Право, зря я пошел с ней к вам, надо было сразу идти к Михаилу Александровичу.
– «Свою проблему», – язвительно передразнил Пассек, – а вот и неправда! Это не только твоя проблема, юноша! У меня такие надежды были на мужа Софьюшки, я хотел ему оставить все, что здесь сделал, а тут – ты! – Пассек выдохнул и махнул рукой: – А, черт побери, все равно… Я лишь хотел, чтобы обошлось без жертв… Давай, иди к Мишелю, только пообещай, что поединков под моей крышей устраивать не будешь. А то знаю я вас – один заорет, другой за нож схватится. С вас обоих станется…
Каховский стремительно вышел, оставив генерала в жалком состоянии – держащегося за сердце и дрожащими руками наливающего настойку в бокал. Проходя мимо женской половины, услышал рыдания. Боже, что же он натворил своим признанием – Сонечка плакала так, что сердце рвалось на части. Махнув рукой на приличия, он толкнул дверь в ее комнату и наткнулся на злобный взгляд кузины. Как львица, оберегающая свое дитя, женщина вытолкала его обратно, с ненавистью шипя:
– Как ты мог?! Как ты посмел, Пьер?.. Осквернить невинную девушку… Запятнать ее честь…
– Да я пальцем к ней не прикасался, Натали! Я люблю ее, и никогда не осмелился бы!.. Что же вы все из меня монстра делаете, я лишь счастья для нее желаю!
– Уезжай, и тогда она будет счастлива, – коротко бросила кузина и захлопнула дверь перед его носом.
…То, что произошло в покоях Михаила Александровича, было невозможно назвать беседой двух интеллигентных людей, один из которых просит руки дочери у другого. Не зря Пассик беспокоился за брата – старик разъярился так, что с воплями брызгал слюной и бессмысленно тараща глаза, бился в судорогах. «Охотник за приданым! Нищее ничтожество! Бессовестный растлитель!» – были единственные цензурные слова, но и те тонули в потоке грязной, далекой от дворянской чести матерщины.
– Но мы с вашей дочерью любим друг друга! Она будет счастлива со мной, уверяю вас, Михаил Александрович! – пытался переубедить старика Каховский, но безрезультатно.
– Она глупа как пробка и влюбляется в каждого, кто скажет ей комплимент! Будто ты первый! Уезжай подобру-поздорову, пока тебя перед всей дворней не погнали взашей!
Пьер с трудом подавил приступ ненависти к этому зарвавшемуся старику, губящему в затворничестве дочь только ради собственного удовольствия.
– Но как вы можете противиться счастью своей дочери?! Ведь вы же видели все, видели, как рождается наша любовь… Мы с Софьей Михайловной оба были уверены, что вы не будете против нашего союза. Отчего же такая ненависть?! Я знаю, я небогат, но мне обещали хорошее место в Одессе, я все устрою… Я буду заботиться о вашей дочери, она ни в чем не будет иметь нужды, даю слово чести!
Салтыков встал, скрипя зубами, указал дрожащим пальцем на дверь:
– Она твоей не будет, даже не мечтай. Все, убирайся! Вон отсюда, щенок!
Как ни старался Пьер, но такого он уже не смог стерпеть. Злобно выкрикнув: «Не отдадите по-хорошему, тогда украду! Софи будет счастлива, что бы вы ни делали!» – стремительно выбежал из комнаты. Дверью хлопнул с такой силой, что книжный шкаф зашатался и рухнул на пол. Грохот и звон разбитого стекла перекрыл горестный вопль старика, кинувшегося спасать любимые книги.
Что ж, выхода из создавшейся ситуации было лишь два. Надеяться на Софью в том, что она переубедит старого маразматика, или… Или действительно украсть любимую женщину, как это делают на Кавказе. Но в любом случае, Крашнево Пьеру придется покинуть нынче же…
Вещей у Пьера было немного – один саквояж и стопка книг, но собирал он эту поклажу более двух часов. Кляня себя последними словами за то, что посмел признаться Сонечке в своей любви – ведь это признание привело к таким ужасным последствиям – в то же время радовался, ведь он узнал, что любим, а знание сие придавало сил и надежду. В конце концов, от мечтаний его отвлек лакей, сообщив, что коляска готова. Мол, барин распорядился, чтобы господина Каховского до самого Смоленска сопровождал Никита. А приставлен сей человек для того, чтобы проследить, что господин там же и останется…
Мимо комнаты Софи Каховского провели как под конвоем (сквозь толстые двери были слышны всхлипы, разрывающие сердце), никто из хозяев не вышел проводить его.
Сев в коляску, он заметил, что окно на втором этаже, на которое он так часто засматривался по ночам, открыто.
– Софи, я люблю тебя! – крикнул он и увидел заплаканное личико девушки.
– Пьер, любимый!.. – только и успела воскликнуть она, как твердая рука тетушки оттащила ее от окна и плотно закрыла ставни.
Коляска повернула за угол, и окно с зажатой между ставнями тонкой портьерой скрылось с глаз.
У дальнего флигеля кучер притормозил. Каховский с удивлением увидел, что к его коляске метнулась тонкая женская фигурка в плотной вуали. Ручка в перчатке протянула маленький конверт, печальный голос прошептал:
– Удачи тебе, Пьер…
– Катерина?! – удивленно привстал Каховский, но лошади рванули, и женская фигурка исчезла в облаке дорожной пыли.
В конверте оказались ассигнации на сумму в пятьсот рублей. Удивительно, но единственной, кто отнесся к Каховскому по-человечески в этом доме, оказалась та, что терпеливо сносила постоянные подколки и подтрунивания Пьера. Недоуменно хмыкнув этому странному стечению обстоятельств, молодой человек спрятал в тощий бумажник деньги, задумался о любимой и, откинувшись на мягкое сиденье, погрузился в то, что называют дорожною хандрой.
* * *
Ровно через три недели Софи вместе с отцом, уставшие от длительного переезда, входили в гостиную Лиз Храповицкой в ее смоленском особняке. Муж Лизы завладел вниманием Салтыкова, Лиз же, подхватив под ручку Софи, увлекла ее на свою половину, беззаботно стрекоча на ушко и хихикая.
Она усадила девушку в кресло, сунула ей в одну руку чашечку какао, в другую – любимого шпица, и затрещала, словно сорока:
– Ах, дорогуша, ты разминулась со столь странной парочкой! Как же я жалею, что ты не видела этих двух господ, буквально полчаса назад вышедших отсюда – вот бы посмеялась со мной от души! Ах, литераторы – они столь очаровательны и так оторваны от реальности! Вероятно, ты знакома с ними! Это барон Антуан Дельвиг и месье Вильгельм Кухель… Кренхен… Крендель… Ах, чтоб его! Кто ж выдумывает такие невозможные фамилии?!
Софи выдавила из себя улыбку:
– Кюхельбекер? Я знакома с Вильгельмом Карловичем, он гостил у нас в Крашневе в июне. Забавный юноша, такой порывистый и несколько картинно вдохновенный. О нем можно сказать, что он поэт в жизни, а не на бумаге. Но признаюсь, стихи его я не очень люблю.
Лиз расхохоталась и попыталась изобразить то, как худощавый Кюхельбекер кланяется. С ее пышной фигурой вышло не вполне правдоподобно.
– Какой он смешной – с его-то выпученными глазами и растрепанными волосами. А зубы, торчащие вперед как у лошади?! Ха-ха, говорят, что он еще и учитель! Представляю, как смеются над этим недотепой его ученики! Когда глядишь на него, возникает чувство, что он каждое свое действие сравнивает с некоей шкалой, где указано, что может совершать истинный поэт, а что – никак не вправе. Хотя, с этих поэтов станется – они спокойно могут изобрести подобную шкалу! Кстати, его друг Антуан – они учились вместе – оказался его совершенной противоположностью: такой аккуратненький, чистенький, кругленький, словно розовощекий бильярдный шар. Только очень медленный, я бы сказала, полусонный шар. Душенька, ведь ты знакома с бароном Дельвигом?
– Нет, но познакомиться с таким необычайным дарованием было бы любопытно, – пробормотала Софи. – Барон изумительно пишет, он несомненный гений, я читаю все его статьи.
Княгиня впервые присмотрелась к девушке и нахмурила свои выщипанные бровки.
– Так, голубушка, что-то мне подсказывает, что у тебя произошло нечто, мне совершенно неизвестное. Я не могу такого допустить, ведь княгиня Храповицкая славится тем, что знает все!
– А я полагала, что княгиня славится кое-чем другим… – печально улыбнулась Софи.
Лиз хохотнула, соглашаясь, по-сестрински обняла девушку, поправила наколку в ее прическе, ласковым голосом прошептала:
– Рассказывай, душа моя. Я же вижу, если ты не выговоришься, то случится страшное.
Слушать Лиз умела. А слушать историю про трагически разлученных влюбленных было для нее наивысшим блаженством. Открыв пухлые губки и расширив без того огромные глаза, она как ребенок внимала рассказу хлюпающей носом Софьи.
– …И с такого нервного расстройства батюшка слег, а мне было запрещено даже заикаться о том, что случилось. Все притворились, будто ничего не произошло, лишь бы у бедного Михаила Александровича вновь не случились судороги! Ох уж этот старый прощелыга, всю жизнь, как себя помню, он пользовался своей болезнью, чтобы добиться от меня повиновения! Моему брату Мишелю посчастливилось убежать из дома. Счастливый, сейчас он служит в гусарском полку, но с отцом до сих пор не ладит…
– Ах, оставь об этом! Лучше, душенька, расскажи, что было потом, после того, как Каховского выгнали, словно уличного попрошайку? – нетерпеливо заерзала Лиз.
Софи душераздирающе вздохнула и промокнула глаза вышитым платочком.
– А потом у тетушки были именины, мы давали бал. Приехало множество гостей, и я должна была изображать, что радуюсь и веселюсь, хотя внутри меня чернел траур. Посуди сама о страданиях, которые я испытывала, вынужденная быть любезной со всеми, нося смерть в душе! Ах, ведь я так долго ждала этого праздника! Я так мечтала протанцевать весь вечер с Пьером… – девушка мечтательно вздохнула, потом чуточку порозовела и со смущением добавила: – Правда, на именинах были весьма любопытные личности… К примеру, братья Боратынские, они оба чрезвычайно милы… Сергей Абрамович, конечно, слишком юн, но, тем не менее, постоянно меня ангажировал. В общем, праздник удался, тетушка была довольна. А вскоре отец мой почувствовал себя лучше, и мы отправились в Петербург. И вот сегодня мы проездом в Смоленске…
Лиз встала, забрала с рук Софьи свою собачку и, поглаживая рыжую шерстку, язвительно промурлыкала:
– Значит, солнце мое, ты развлекалась в то время, когда несчастный Каховский умирал от горя? Ведь он, дорогуша, несколько раз был здесь. Скажу тебе, выглядел он ужасно – глаза красные, лицо бледное, небритый, весь какой-то дерганый… Бр-р! Пьер и раньше-то мало отличался жизнелюбием, но нынче превзошел сам себя!.. Призраки и те смотрятся краше. Он неразговорчив, и я, как ни пыталась, ничего не смогла от него добиться. Пришел ко мне в оранжерею, молчит и вздыхает. Я, грешным делом, даже подумала, что он в меня влюбился – а что, со многими случается! – а тут, оказывается, все куда сложнее…
Софи вскочила, заметалась по комнате:
– Он еще здесь, в Смоленске?! Бог мой, мы завтра уезжаем… Но я должна увидеть Пьера! Я виновата перед ним – не могла отвечать на его письма. Вся моя почта вскрывалась дядюшкой. Пьер сумел передать записки с надежным человеком, но мне этого не удалось. Я обязана ответить, сказать ему, что люблю!
– Ах, какая жалость – Каховский уехал из Смоленска по делам. Говорил про нечто, связанное то ли с наследством, то ли с новым местом службы… Вернется только завтра, – княгиня подсела к Софье, с видом крайнего любопытства проворковала: – Скажи, что он писал тебе? Письма у тебя с собой? Дай прочесть, душенька, ты же знаешь, как я обожаю любовные драмы!
Девушка достала из-за корсажа три перевязанных лентой записки, протянула княгине. Писано было по-русски: размашистый мужской почерк, кое-где на перо надавлено с такой силой, что бумага проткнута – да, послания эти действительно пылали страстью.
«Ваша репутация, от которой, полагаю, зависит все счастье нашей будущей жизни, может ли быть недорога мне? Прошу вас, Софья Михайловна, все сказать и объяснить Михайло Александровичу, вы знаете его, вы сможете его убедить в том, что я с ним совершенно искренен… Неужели вы затем сказали мне «люблю», чтобы сделать меня несчастным?»
«Есть ли какая надежда? Что я должен делать? Отвечайте, заклинаю вас! Можете ли опасаться меня, я дышу вами, не могу выразить, что чувствую, как терзаюсь, столь неожиданно расставшись с вами! Ехать ли мне в Петербург? Писать ли к брату вашему, просить ли его, чтоб он помог нам? Неужели все погибло для меня? Вы еще можете быть счастливы, но я – где найду ту точку земли, где бы мог забыть, не любить вас? Ее нет для меня во вселенной, верьте, бури глас не в силах выразить мук моих, Софья Михайловна! Прощайте, и за пределом гроба, если не умирает душа, я ваш…»
«К чему могу приписать молчание ваше, несравненная Софья Михайловна?! Я болен, скажите, неужели вы так страшно пошутили надо мной? Я не могу поверить в это. Мне легче будет прервать несносную нить жизни: заклинаю вас счастьем – отвечайте! Что делается в душе моей, я не могу объяснить! Смерть без вас мне благо, она прекратит мои страдания. Ваше молчание останавливает биение моего сердца… Самого бога ради, отвечайте!»
Княгиня промокнула глаза – по батисту расплылись настоящие, неподдельные слезы. Срывающимся голосом еще раз перечитала вслух:
– «Где я найду ту точку земли, где бы мог забыть, не любить вас?» «За пределом гроба, если не умирает душа, я – ваш»…
Боже, как же он искренен… Я и подумать не могла, что возможна такая буря чувств! Эти послания наивны и несвязны, ведь Каховский далеко не литератор. Лишь поэты позволяют себе забыть об искренности в угоду красоте строчек, рифм и ритма. Это письмо, дорогая моя, написано не чернилами, а слезами. Ты обязана ответить, иначе следующее послание будет написано кровью!
– Что такое ты говоришь! – Софья вырвала из рук Лизы письма. – «Кровью»! Начиталась английских романов, вот и драматизируешь… Лиз, ты можешь спасти нас с Пьером, ты просто обязана это сделать. Никому другому я довериться не могу.
Княгиня с горящими глазами вскочила, приняла позу Афины Паллады и воинствующе воскликнула:
– Я огражу вашу чистую любовь от грубости бытия – пиши! Я передам письмо Пьеру, как только он вернется в Смоленск! И обещаю, что ты увидишь своего любимого! – потом более практично добавила: – Только не забудь указать точный адрес в Петербурге, где будешь жить, так Каховскому будет проще тебя найти. Любовь-любовью, а город-то большой – поди, найди одну единственную девушку, пусть и такую прелестную, среди населения в четыреста тысяч. Кстати, душа моя, через пару месяцев я тоже собираюсь в столицу – в Аничковом дворце обещали небывалый по размаху маскарад. Если хочешь, я выпрошу у великой княгини пропуск для тебя. Только обещай, что на маскараде будешь веселиться, а не дуться, как сегодня! Договорились? Вот и отлично! Теперь, дорогуша, пошли со мной, я покажу тебе эскизы нарядов, а то сама никак не могу выбрать фасон. Офелия – слишком мрачно, а Коломбина – слишком банально…
* * *
Тихим осенним вечером подпоручик, бравый гусар и отъявленный рубака двадцатилетний Михаил Михайлович Салтыков внезапно осознал, что не на шутку влюбился. Случилось сие печальное недоразумение в театре, куда почти насильно его привели друзья – полюбоваться на ножки мадемуазель Телешовой. Ножки действительно были прелесть как хороши, но Амур подстерег несчастного подпоручика вовсе не со стороны сцены. Богиня, что пришла в ложу второго яруса, потрясла Мишеля до глубины души. Той самой души, что у настоящих мужчин пониже живота.
Это была не обычная жеманница с капризно надутыми губками и презрительным взглядом, которых в Петербурге пруд пруди. Нимфа оказалась особенной: разумеется, она имела и пышный бюст, и мраморные плечи, и прекрасные голубые глаза с поволокой… но главное – она была живой!
Для начала – мадемуазель (или мадам?) посмела опоздать на спектакль и прийти уже после того, как представители царской фамилии заняли свои места. По приходу же, наяда обратила на себя внимание тем, что с громким смехом замахала руками и посвойски закричала через всю залу, зовя к себе какого-то генерала. Сей франт, красуясь Владимиром, Анной и даже Андреем Первозванным, тут же оказался в ложе прелестницы. Энергично что-то обсуждая, пара привлекла к себе внимание всего партера и императорской ложи.
– Кто она, та, что с кавалерийским генералом? – Мишель, не отрывая монокля от ложи красавицы, толкнул в бок давнего друга Воецкого. Капитан знал всех и вся в Петербурге.
– Графиня Собаньская с любовником. Разве ты не узнал де Витта, Мишель? Любимчик Временщика, облагодетельствованный самим государем. Кстати, эта скандальная особа действительно необычайно прелестна.
– Она замужем?
– Разумеется. Только замужние дамы могут позволить себе подобное поведение на глазах всего света.
– Что она нашла в этом старикане? Ему лет сорок пять, не меньше! – возмутился Салтыков, подкручивая жидкий ус.
Сосед хохотнул:
– Глянь-ка, а этой чаровнице нравятся не только старики!
И действительно, в ложе появились трое молодых мужчин, двоих из которых Мишель знал. Это были барон Андрей Розен, с которым Салтыков играл в «Американку», Николай Бестужев, а также еще какой-то статский. В один яркий момент прелестная графиня сделала то, что заставило прокатиться по ложам и партеру взбудораженному шепоту – она самолично закрыла портьеры в своей ложе, оставшись таким образом наедине с четырьмя мужчинами, будучи, тем не менее, на глазах у всех! Да, теперь будет о чем посплетничать кумушкам в салонах.
Мишель был побежден. Столь непосредственная самоуверенность и пренебрежение к светским условностям, да еще на глазах государевых братьев и всего высшего света! Такая женщина будоражила кровь получше самого крепкого рома.
– Я хочу, хочу быть представленным ей!.. О! Это необыкновенная женщина!..
…Все второе отделение необыкновенная женщина просидела в ложе в полном одиночестве, попивая шампанское и – вот скандал – вольготно положив ножки в атласных туфельках прямо на подлокотник соседнего кресла. Как ни вытягивали шеи господа из партера, но ничего лишнего увидеть не смогли, хоть поза сия, насквозь пропитанная приторно-расслабленным стилем Марии Антуанетты, поразила всех. Фурор, что произвела Собаньская, был несравним с потугами Телешовой, красота и грация которой как-то сразу померкли.
Не досмотрев балета до середины, графиня выпорхнула из ложи. Мишель вскочил и по ногам помчался между кресел. Вслед ему послышался насмешливый голос Воецкого:
– Глупец, такая женщина не для тебя!
Но было поздно – Мишель уже закусил удила и рванул навстречу судьбе.
Выбежав в пустой холл театра, подпоручик увидел, как его любимая (действительно, что уж тут скрывать, – любимая) выходила на улицу с бароном Розеном. Такой оборот дела только раззадорил гусара – сдаваться было не в правилах Салтыкова.
Вечер был прохладным и звездным, фонари горели, площадь у театра была полна карет. Прячась между экипажами, лошадьми и переговаривающимися лакеями, подпоручик незаметно проследил за странной парой. С недоумением увидел, что барон ловит экипаж и собирается отправлять прелестницу домой в одиночестве. Вот простофиля! Мишель никогда бы не допустил подобного шанса, дающегося небесами раз в жизни.
Нежный голосок из кареты прозвучал несколько громче, чем следовало:
– …Барон, не провороньте свое сокровище, а то не дай бог, уведет кто-нибудь. Удачи вам, и заезжайте в гости! По-дружески!
Карета уехала, а Розен, о чем-то задумавшись, так и остался стоять посреди улицы круглым идиотом. Михаил подошел сзади, кашлянул, привлекая внимание. Барон очнулся и пожал протянутую руку.
– А, Мишель, это ты! Какая встреча! – с доброй улыбкой он обнялся с юношей.
– Андре, я прошу прощения, но дама, которую ты только что провожал…
– Графиня Собаньская, весьма обворожительная особа.
– Она произвела фурор.
– Ты прав, Каролина Адамовна в некотором роде пикантная штучка, но, как оказалось, умна и добра сердцем. И, что еще удивительнее, она может быть настоящим другом. Такие женщины редкость для столицы.
– Да, она просто неотразима. Андре, ведь ты же мне друг? Можешь меня ей представить? Я заметил, что вы общались накоротке…
Розен улыбнулся еще шире:
– Ледяное сердце Мишеля Салтыкова разбито. Не спорю – вкус у тебя превосходный, я сам устоял с великим трудом. Но вряд ли тебе здесь что-нибудь светит, – заметив, что брови молодого человека сурово сошлись на переносице, а рука ищет на бедре шпагу, Андрей примирительно воскликнул: – Не дуйся, друг мой, просто на Собаньскую положил глаз великий князь Николай Павлович, а это – сам понимаешь… Но не переживай, разумеется, я тебя ей представлю. Графиня принимает по четвергам, заезжай на следующей неделе ко мне, скатаемся вместе. Каролина Адамовна интересуется литераторами, думаю, ты вполне сможешь ее развлечь рассказами про «Арзамас» или еще чем-нибудь подобным…



