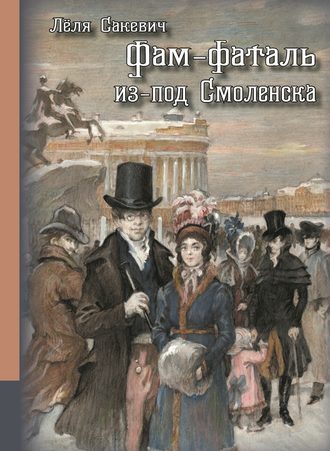
Лёля Сакевич
Фам-фаталь из-под Смоленска
Не веря в свое счастье, Салтыков просиял и на радостях пригласил Андрея в одно заведение, пообещав угостить «необычайной по своим вкусовым ощущениям амброзией».
К себе на квартиру он явился уже под утро, еле передвигая ноги и что-то напевая под нос. Ефтей, его дядька, с удивленным выражением на глупой физиономии сообщил:
– Барин, давеча к вам господин Воецкий приходил и прождал вас чуть не три часа. Только это был не Воецкий, мне ли не знать капитана? Это был какой-то другой господин, назвавший себя его именем…
– Что ты мелешь, болван? – пробурчал Мишель, с трудом понимая, о чем твердит дядька. – Воецкий был со мной в театре. Все, спать буду!
– Так и я о чем толкую, барин! – залепетал лакей. – Тот господин только притворился Воецким! Неужто я не определю гусарского капитана от штатского барина? Господин тот был наряжен в гражданское платье – в темный фрак и цилиндр. Он сказал, что будет ждать вас завтра в трактире «Лондон», номер шесть. Подозрительный такой господин – так и зыркает темными глазами! Как бы нам с вами, барин, неприятностей с такими гостями не нажить!
Мишеля пьяно качнуло. Он завалился на кровать, бормоча:
– Вот еще! Чтобы Михаил Салтыков боялся каких-то проходимцев?! Тем более, штатских – ха! Завтра же посмотрим на этого субчика… Только ты, Ефтей, напомни-ка мне с утра, а то ж знаешь, я могу и забыть…
Далее последовал молодецкий храп, и Ефтей, по-стариковски причитая, принялся стягивать со спящего барина сапоги.
* * *
Трактир «Лондон» не отличался богатством убранства и изысканностью публики, но Мишель знал, что кормили тут недурно, а периодически по вечерам выступал чудесный цыганский хор. К тому же, горничные здесь были просто цыпочки. В общем, место для странной встречи в стиле английских романов было выбрано недурно.
Без стука толкнув дверь шестого номера, Салтыков по-хозяйски вошел внутрь небольшой дурно обставленной комнаты.
Человек, в одежде лежащий на кровати с книгой («Кавказский пленник» Пушкина, чтиво столь же мрачное, как и сам читатель), вскочил ему навстречу и застыл в нерешительности, разглядывая вошедшего. Потом просиял и горячо затряс руку: – Вы изумительно похожи на вашу сестру…
Мишель скривился – вчерашняя гулянка колоколом отдавалась в голове, а тут еще какой-то дерганый фрукт вопит что есть мочи. Он молча выдернул руку из горячих ладоней незнакомца, бряцая шпорами, прошелся по комнате, увидев начатую бутылку Аи, без разрешения присосался к горлышку. Жизнь налаживалась, настроение поднималось. Остановив ладонью начавшего что-то сбивчиво объяснять хозяина номера, Михаил неторопливо сел на единственный в комнате колченогий стул и, положив руку на эфес шпаги, внушительно произнес:
– Ну? И кто вы такой? Что за театральные постановки в стиле Дидло? Вы хотите сказать, что я не знаю, как выглядит мой друг капитан Воецкий? И, черт побери, к чему вы, любезнейший, приплели мою сестру?!
Худощавый, немного сутулый мужчина нервно заходил по комнате. Лицо его, бледное и изможденное, сияло такой надеждой, что Мишель повременил с решительными мерами – пусть человек выскажется.
– Для начала, я попрошу прощения у вас, Михайло Михайлович, за то, что назвался именем вашего друга, – незнакомец чуть улыбнулся: – Это маленькая стратегическая хитрость была лишь для того, чтобы иметь возможность встретиться с вами на нейтральной территории и поговорить. Вы все поймете, когда услышите мою историю. Позвольте представиться, Каховский Петр Григорьевич, вы, верно, слышали обо мне… От сестры вашей, любезной Софьи Михайловны…
Брови Михаила взлетели вверх, он изумленно засмеялся.
– Так во-от в чем дело! Вы – тот, по кому Сонька нынче сохнет! Так вот вы какой! Я-то, признаться, ожидал увидеть в Каховском этакого пройдоху-ловеласа, охотника до невинных бутонов, а никак не… Ох, пардон… Ежели затронул ваши чувства…
Каховский не обиделся – он прекратил свои странствия по комнате и подскочил к Мишелю:
– Я не ослышался?! Вы выразились «сохнет»? Не значит ли это, что Софья Михайловна все еще не забыла меня? О, боже, какой малости иногда хватает, чтобы вернуть человека к жизни! Михайло Михайлович, вы мой спаситель…
Салтыков не ожидал в это хмурое утро становиться ни чьим-либо спасителем, ни, упаси боже, благодетелем. Но, видя столь искреннюю радость Петра Григорьевича, благосклонно прервал его:
– Зовите меня Мишелем, я же младше вас. А я, в свою очередь, буду называть вас Пьером.
В экзальтации Пьер вновь забегал по комнате.
– О, разумеется! Мишель, вы, я вижу, принимаете судьбу вашей сестры близко к сердцу, и потому желаете ей счастья. Моя цель та же, так давайте объединимся! Случилось так, что мы с Софьей Михайловной полюбили друг друга, и стремимся пожениться, но ваш батюшка… Он…
– Я знаю – вы уж простите за грубость, мон шер – отец считает вас нищим ничтожеством, и потому не отдает за вас Соньку.
Пьер злобно рыкнул и скрипнул зубами, но опомнился и умоляюще произнес:
– Уговорите Михаила Александровича одуматься! Пусть хотя бы рассмотрит мое предложение! Да, я небогат, но со дня на день жду обещанного места возле одесского губернатора, и тогда моя жизнь будет в достатке. Софья Михайловна не будет ни в чем нуждаться, она будет счастлива со мной! Ведь она любит меня, она сама говорила об этом!
Салтыков с кривой ухмылкой понял бровь:
– Вы уверены в том, что у нее это надолго? Уверены, что столь радикальный шаг – женитьба – вам нужен, Пьер? Я знаю Соньку с детства, и с самого раннего младенчества эта мадемуазель была в кого-то влюблена. В пять лет это был портрет Жуковского. Причем не сам Василий Андреевич, который частенько заходил к отцу, а именно его портрет – акварель в рамочке под стеклом. Софи рыдала над ней и брала с собой в кроватку, вместе с куклами. В семь лет ее любовью был мой учитель фехтования, она постоянно подкидывала ему открытки, разрисованные голубями, сердечками и почему-то слонами. Глупый французишка решил было, что эти признания – дело рук Сонькиной гувернантки, случилось забавное недоразумение, и я лишился учителя фехтования. Нет, ничего страшного не произошло, просто отец выгнал француза взашей, у него это недурно получается, вам это уже известно. Но про влюбленности Соньки я еще не закончил: в одиннадцать лет был мальчишка-полотер, в пятнадцать – один из моих друзей. Продолжать список? Хм, о том, в кого она была влюблена в течение учебы в пансионе – сказать не решусь, но знаю точно, что из столицы отец ее увез именно из-за интрижки с неким пройдохой, крестником великого князя Константина Павловича. И вот теперь – вы, мон шер. Я не наговариваю на сестру, упаси боже, я ее люблю, но знаю, что она слишком жива и эмоциональна. Может так случиться, друг мой, что, женившись, вы вскорости обретете ветвистые рога…
Пьер насупился, а Салтыков прошелся по комнате и по-братски приобнял его за плечи.
– А давайте-ка мы с вами выпьем на немецкий манер – на брудершафт. Отчего-то вы мне нравитесь, Пьер, и я хочу называть вас на «ты»!
Выпили, троекратно расцеловались. Каховский, видя, что молодой гусар пьянеет на глазах, поспешил решить свое дело, а не превращать общение с новым другом в обычную попойку.
– Ты поможешь нам, Мишель. Уговоришь Михаила Александровича согласиться на этот брак. Объяснишь ему, что мне не нужно приданое за Сонечку… м-м… Софью Михайловну, мне нужна лишь она. Я могу допустить, что к дочери он относится, как к капризному ребенку, но тебя-то отец точно послушает!
Салтыков расхохотался:
– «Объяснишь»! «Послушает»! О чем ты мелешь?! Друг мой, ты обратился не по адресу. Увы, для отца я – отрезанный ломоть. Когда я, прихватив кое-что из фамильного серебра, посмел удрать от неусыпного надзора этого жандарма, притворяющегося философом, он отказался от сына и клятвенно пообещал лишить меня наследства. Прости, брат, но уж меня-то этот старый пень точно слушать не будет. Разве что назло что-нибудь сделает…
– Все же поговори с ним, – с мученическим выражением на лице попросил Пьер. – И еще… Он прячет от всего света Софью Михайловну, она, бедняжка, приехав в Петербург, до сих пор нигде не бывала… Я узнавал – комнаты, которые снимает Михаил Александрович, выходят окнами во двор, увидеться с любимой у меня нет никакой возможности. Ведь мы живем не в средневековье, чтобы запирать красавиц в башне… Мишель, ты на правах брата мог бы вывезти Сонечку куда-нибудь в свет, и там я, наконец, смог бы перекинуться с ней хотя бы парой фраз…
Михаил призадумался, а Пьер, видя его нерешительность, яростно схватил его за руки и заглянул в глаза:
– Мишель, ну разве ты не можешь понять меня?! Софья Михайловна все равно что воздух для меня, если ее не будет рядом, то и меня уже не будет! Черт побери, Мишель, неужели ты никогда не любил?!
Салтыков вспомнил вчерашнюю оперу и фею, украсившую тот вечер. Да, он может понять этого отчаявшегося человека… Мишель так же отчаянно влюблен. Что ж, похоже, счастье сестрицы он сможет устроить! С хитрой улыбкой он подмигнул Пьеру, пошел к выходу и, уже держась за ручку двери, сказал:
– Мон шер, я понимаю тебя и потому помогу. Употреби все свои связи, но достань приглашение на вечер к графине Собаньской в следующий четверг. Там ты увидишься с Софьей. Все, адью, дружище! – и, прихватив недопитую бутылку, вышел вон.
* * *
«Из всех страдалиц я – самая жалкая. Из всех женщин я – несчастнейшая. Чем больше было мое счастье, когда ты любил меня больше всего на свете, тем горше мои страдания сейчас, после твоего падения и моего позора. Ибо чем выше скала, тем губительнее падение с нее…»
Софи вздохнула и отложила в сторону томик «Абеляра» – все-таки классики умели выражать свои чувства так, как никто сейчас не смог бы.
Прошло два месяца с того момента, как она в последний раз видела Пьера. О, как же она скучала по нему! Как она билась в истерике и с какой ненавистью проклинала отца, этого старого тирана, сгубившего ее молодость, подрезавшего ее крылья на самом взлете! Как недоставало ей обожающего взгляда и боготворящей дрожи в голосе любимого Пьера…
Вначале Софи чувствовала себя именно так, как Элоиза – самой жалкой и несчастнейшей из страдалиц… Но время шло, и страдать стало как-то полегче. По приезду в Петербург она успела пригласить к себе всех подруг из пансиона, начирикаться и насплетничаться вдоволь, накупить новых нарядов, шляпок и вееров, книжек и понять, что ее летнее приключение было довольно забавным и милым, но быстро проходящим, словно туман над утренней рекой.
Туман в ее встревоженной душе почти полностью развеялся благодаря письму княгини Храповицкой, где Лиз сообщала последние сплетни из деревни.
«Дорогуша, боюсь разбить твое маленькое сердечко, но до меня дошли слухи, что Пьер нас всех бессовестно обманывал! Предвижу твое возмущение, солнце мое, но к информации от княгини В. никак нельзя отнестись с недоверием, ты же знаешь это. Каховского не берут на место секретаря ее мужа, это место уже давно занято, он либо обманул нас, либо сам обманывается, что более желательно, ибо не хотелось бы дурно думать о Пьере. Софи, дорогуша, Каховский – нищий, и вряд ли когда-нибудь ему посчастливится найти достойное место службы, это факт. Подумай, крепко подумай, прежде чем соглашаться на этот союз! Спроси себя, готова ли ты, красавица и умница, отказаться от света, от встреч с умными людьми, от балов и маскарадов лишь ради того, чтобы сидеть в темной каморке рядом с мрачным неудачником-мужем и переругиваться с одной единственной грязной поварихой? Подумай, душа моя. Ваша страсть через год или два пройдет, а нищенское существование тебе придется влачить всю оставшуюся жизнь…»
Конечно же, Софи любила Пьера, но отчего-то упоминание именно о грязной поварихе покоробило ее уверенность в своих чувствах. Действительно, готова ли она пожертвовать своим положением ради сиюминутной страсти? К тому же, если бы Каховский любил так же сильно, как высказывал это в тех письмах, что хранились у нее в шкатулке, то он обязательно попытался бы встретиться с Софьей здесь, в столице. А так – уже два месяца от него не было ни весточки.
Хотелось закрыть эту страницу и жить дальше, но отец все дулся, разрешая выезжать лишь в модные лавки и книжные магазины, да и то под строгим присмотром горничной девушки. В последнее время старика снова стали мучить судороги, он слег и не отпускал от себя Софью ни на шаг – это было похоже на заточение под стражу, где за лишний взгляд, брошенный в окно, приговаривают к виселице.
Дочь обязана была сидеть рядом, постоянно слушать недовольное брюзжание Салтыкова и либо читать ему что-то из Руссо, либо вышивать. Это было ужасно! А ей так хотелось танцевать, летать в вихре мазурки, петь и заставлять сердца всех окружающих мужчин трепетать! В конце концов, она уже давно не испытывала бабушкин метод «улетающего взора», а отсутствие практики может плохо сказаться на ее навыках обольщения, столь необходимых для светской дамы…
Но однажды пришло спасение. Спасение буквально ввалилось в ее полусонный мирок и выглядело как полупьяный разбитной гусар с торчащими усами и смеющимися глазами. Софи с хохотом бросилась на шею брата и расцеловала его в обе щеки. Мишель наполнил ее маленькую комнатку жизнью, шумом, радостью и застарелым перегаром.
– Сонька, хватит кваситься! Готовь наряды, завтра мы с тобой идем на званый вечер. Наверно скисла тут, рядом со стариком-то? Потанцуешь, постреляешь глазками, тебе будет полезно, а то вон какая бледненькая стала – видок едва не чахоточный. Не переживай, отца я уломал, в конце концов, неужели ты с братом не можешь выйти в свет?! Разве ты что-то совершила, чтобы тебя запирать под замок? – он присмотрелся к ее счастливым глазам, чуть засомневавшись, делано нахмурился: – Или совершила?..
– Ну что ты, Мишель! Перед тобой невиннейшее создание! – Софи захлопала ресницами и каверзно хихикнула.
Гусар хохотнул и потрепал ее по щечке:
– Ага, верю-верю! Наслышан, как ты, невинное создание, всем приезжим в деревне вскружила голову.
– Вскружила, но далеко не всем… А куда мы с тобой идем? На маскарад? В оперу? В гости?
– На прием к графине Собаньской, полячке, красавице и, ах… самой необыкновенной женщине на свете…
– Неужто Мишель вновь влюблен? – хихикнула Софи и получила, как в детстве, несильный щелбан по носу.
– Какие мы проницательные и не в меру прозорливые! На себя взгляните, мадемуазель! Все, Сонька, собирайся, завтра в шесть заеду. Обещаю – общество, которое собирается вокруг графини, тебе придется по вкусу. И больше никаких вопросов, все остальное – сюрприз!
* * *
До Софьи доходили слухи, что польская красавица Каролина Адамовна Собаньская прославилась в Петербурге не только скандальным поведением, но и необыкновенным обаянием, с каким можно было сравнить лишь обворожительность княгини Храповицкой. Мужчины слетались к ней, словно мотыльки на костер: эта фам-фаталь постоянно была окружена свитой добровольно жертвовавших своим временем, деньгами и чувствами штацких и офицеров. Софи усмехнулась – именно в эту свиту и стремился попасть наш славный и недалекий Мишель. Как оказалось, графиня была достаточно требовательна к знакомствам и предпочитала общение с образованными и приближенными к творческой элите людьми. Поэтому юному гусару, не срифмовавшему на своем веку ни строчки, будет проблематично произвести должный эффект на предмет своих мечтаний.
Несчастных, ищущих светоносного общения с графиней, в большом особняке близ Биржи в этот вечер было немало. Мишель, считая, что выполнил все обязанности брата, завел сестру в холл и, размахивая букетом пармских фиалок, скачками помчался в толпу обожателей.
Оставленная в одиночестве Софи огляделась.
Недурные копии античных статуй и вполне сносные подделки полотен фламандских мастеров говорили о том, что жилье снималось. Графиня перебралась в Петербург недавно, и задерживаться надолго не собиралась, иначе перевезла бы сюда любимые картины из Одессы. Ходили слухи, что Собаньская приехала в столицу затем, чтобы развестись и выйти замуж за любовника, но кто именно из этой толпы был любовником графини, было неясно (может, их несколько?).
Из гостиной слышались взрывы совершенно неприличного гусарского хохота, откуда-то из глубины дома лилась нежная фортепианная музыка. Любопытно, кто так гениально музицирует?..
К Софье с двух сторон подскочили дамы: рыженькая толстушка, Катиш Трубецкая, круглое личико которой сплошь было усыпано веснушками, и маленькая черненькая Вера Вяземская, обаятельная и не менее смешливая, нежели ее подруга. Наперебой треща и хихикая, они увлекли девушку за собой в залу, где чернота фраков разбивалась яркими пятнами офицерских мундиров.
Обе дамы были княгинями и обе были замужем, но в гостях у графини Собаньской присутствовали без мужей. Все просто – Сергей Петрович Трубецкой был слишком занят, чтобы посещать подобные мероприятия, а Петр Андреевич Вяземский и рад бы, да не мог – он вызвал недовольство государя и был выслан в свое имение под Москвой, подальше от монаршего взора. Тем не менее, все это не помешало их веселым женам развлекаться в свете.
– Сонечка! Дорогуша! Ах, у нас так мало дам, нам тебя так не хватало! Как замечательно, что ты пришла! Какое прелестное платье! Милые часики! А этот веер – ты заказывала его у мадам Полин? Ох, что за прелесть! – затараторили они наперебой.
Софи со смехом поспешила было за подругами, как вдруг заметила в толпе фрачников знакомое лицо.
– Милые мои, я оставлю вас – хочу поздороваться с одним замечательным человеком…
Она выпорхнула из цепких ручек княгинь, подошла к небольшой группе увлеченно беседующих статских. Тронула веером за плечо невысокого, крепко сложенного мужчину лет тридцати трех с гладкими черными волосами и мягким выражением на лице.
– Петр Александрович, как же я рада вас видеть! – чуть не запищала она от восторга.
Софи и не думала, что за лето успеет так сильно соскучиться по своему любимому преподавателю словесности. Она постоянно переписывалась с поэтом Плетневым, и какое-то время была уверена, что безумно влюблена в него (как и многие барышни, слушающие его курс). Сейчас же ей было действительно приятно видеть его добрую улыбку и искреннюю радость при виде ученицы.
– Александра Сергеевна, душа моя! Вот так встреча, а я не знал, что вы вернулись из деревни…
– Отчего, любезный Петр Александрович, вы называете Софью Михайловну чужим именем? – спросил стоявший рядом Жуковский. Смуглый поэт блеснул миндальными глазами, поцеловал ручку Софье и ласково улыбнулся.
Девушка рассмеялась:
– Это все из-за Пушкина. На курсе меня прозвали его именем оттого, что я знала все его стихи наизусть.
– Мало того, что знала, она еще и донимала ими не только всех своих подруг, но и нас, преподавателей, – хохотнул Плетнев.
Жуковский рассмеялся, за спиной Софьи раздался неловкий кашель и тихий голос пробубнил:
– Французу будет лестно узнать, что столь милая особа так высоко ценит его творчество. В следующем письме я обязательно напишу ему об этом…
Софи обернулась – пухлый молодой мужчина с аккуратно завитыми русыми волосами, голубыми глазами и невинно круглым лицом отчаянно краснел и нервно протирал очки. Потом опомнился, поклонился, сунул очки мимо кармана и представился: – Позвольте отрекомендоваться, барон Дельвиг, Антон Антонович…
Стеклышки плавно проскользнули по атласному лацкану черного фрака, не задержались на расшитом серебром жилете и неожиданно нырнули в глубокие складки палевого гипюра на юбке Софьи. Похоже, где-то в глубине, они зацепились дужкой за один из многочисленных воланов.
Девушка охнула. Помня о приличиях, все же побоялась делать реверанс – чтобы очки не упали и не разбились. Застыв в неловкой позе, она подала для поцелуя руку и проблеяла:
– Салтыкова, Софья Михайловна. О боже, барон, вы обронили свои очки! По-моему, они упали на мое платье, но я не слышала звона… Боюсь, что они сейчас раздавятся… Я, конечно, могу попрыгать, и стеклышки вывалятся сами, но в таком случае они точно разобьются. Господи, помогите же мне их достать, месье!
Жуковский, Плетнев и красный как рак барон мигом встали рядом с девушкой на колени и принялись методично ощупывать каждую складку ее пышного платья. Никто даже не задумался, как вся эта картина выглядит со стороны.
Ох уж эти чертовы стекла на проволоке! Позор! В такую глупую ситуацию Софи еще никогда не попадала!
И вдруг по зале пронесся возглас, отразившийся у девушки где-то под ложечкой:
– Софья Михайловна, что… что это вы делаете?!
Не веря своим ушам, она поняла глаза и увидела перекошенное лицо Каховского. Пьер?! Но откуда он здесь? И… О боже, что он о ней подумал?!
Вдруг в ушах зашумело, вокруг полетели звезды, и пол под Софьей резко вздыбился. Уже падая в обморок прямо на руки барона, она услышала жалобный хруст стекла – вот они, очки, нашлись, наконец…
* * *
Дороговизна жизни в столице начала выводить Каховского из себя. Быстро промотав пятьсот рублей, подаренных внезапно подобревшей Катериной Петровной, Пьер вновь задумался о том, что следует у кого-нибудь взять взаймы пару сотен. Но отчего-то в Петербурге было мало людей, страдающих добросердечностью, вероятно, это объяснялось действием влажного климата. Конечно, было бы куда более благоразумнее не торчать круглым идиотом под окнами дома Грассе на Литейной, а ехать в Одессу и вступать в отчаянную борьбу за место. Но то, что притягивало его к этому дому, было стократ сильнее молодого человека и стоило всех денег мира.
Старик Салтыков только прикидывался выжившим из ума сатрапом. Он отлично знал, что Каховский ищет встречи с его дочерью, и потому всячески выкручивался, приказав перехватывать его записки и задерживать силой, если Софи куда-то выезжала. Он окружил Сонечку новыми слугами, ни подкупу, ни угрозам неподвластными. Похоже, бедная девушка и не ведала, какие войны каждый раз происходят между Каховским и холопами Салтыкова только ради одного взгляда на краешек ее платья, выглядывающего из коляски при выезде.
Поняв бессмысленность своих попыток, Пьер решил действовать в обход, он был вынужден обратиться к Мишелю. Мальчишка ему понравился – живой, ни в чем не знающий меры остолоп, прущий напрямик не хуже тяжеловеса, тягающего пушки на поле боя. Каховский и сам когда-то был таким же, только, разве что, менее жизнерадостным и общительным.
«Употреби все свои связи» – легко сказать. Попасть на закрытый прием к столь значительной особе, как графиня Собаньская, было задачей не из легких, но все же решаемой. По приезду в столицу Пьер встречался со старым знакомым, немного сумасшедшим, но чистым сердцем Вильгельмом Кюхельбекером. Тот между делом упомянул о Кондратии Рылееве, которым – как ни странно – живейшим образом интересовалась графиня.
Каховскому пришло на ум поручение Пассека, данное ему еще в прошлой жизни, в деревне. С трудом найдя среди бумаг измятое письмо, которое давным-давно нужно было отдать издателю, Пьер решительно направился на Мойку.
Кондратий Федорович был ненамного старше Каховского, но в жизни добился гораздо большего. Издатель известного альманаха «Полярная звезда», сочинитель прогремевшего на всю столицу памфлета к Временщику, он не стремился, как другие поэты, приблизиться к трону. Наоборот, все его стихи были наполнены революционным экстазом, призывающим к действию. Пьеру, любящему поэзию не только за красоту строк, но и за содержание, они нравились:
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Человек, написавший такие строчки, обязан быть патриотом не только на словах. Так и оказалось.
Кондратий Федорович был семейным человеком – это Пьер понял, когда денщик проводил его по анфиладе из нескольких комнат. В домашнем уюте – обивке стен, портьерах и картинах – чувствовалась женская рука, и кое-где на глаза попадались вещи, явно принадлежавшие маленькой девочке: то кукла с фарфоровым лицом, то мяч, то плюшевый заяц невиданной расцветки. Но, как ни странно, ни хозяйки, ни ее дочки в доме не было, был лишь слышен громогласный мужской хохот, раздающийся из-за последней двери анфилады. Надо полагать, из хозяйского кабинета.
Денщик, постучавшись, доложил, и Пьер вошел в просторный светлый кабинет. Стеллажи с книгами и газетами, конторка черного дерева, два больших приставленных друг к другу письменных стола, оттоманка с турецкими подушками, бюстики Байрона и Наполеона – все окутывал ароматный дым дорогих сигар и запах алкоголя.
У одного из затянутых холстом столов, поджав под себя ноги, сидел красивый молодой человек с усами подковой и русыми волосами. Он читал какие-то бумаги. Рядом, облокотясь на спинку его стула, стоял мужчина постарше, лет тридцати пяти. Оба были в расстегнутых жилетах, с сигарами в зубах, и оба чем-то друг на друга походили. Очевидно, они были братьями. О чем-то горячо споря, они лишь ненароком взглянули на вошедшего Пьера и вернулись к своему занятию.
Порывисто вышедший навстречу хозяин, зажимая под мышкой внушительную пачку исписанной бумаги, с любопытством взглянул на гостя, поднял бровь:
– Каховский?.. Чем обязан?..
Глаза у него были необычные – большие, черные и выразительные, дамам такие нравятся. Пьер коротко поклонился, подал письмо:
– От Пассека. Прошу прощения, что задержал с доставкой, генерал уверял меня, что оно не срочное.
Лицо Рылеева моментально преобразилось: глаза заискрились, тонкие губы расплылись в счастливейшей улыбке, будто Пьер сообщил ему о чем-то небывало радостном. Кондратий Федорович всплеснул руками (отчего все его бумаги разлетелись по комнате) и, не замечая ничего, кинулся трясти руку несколько опешившему от такого напора Каховскому:
– От Петра Петровича?! Дорогой мой, что же вы стоите на пороге? Заходите, заходите! Как вас?.. Петр Григорьевич? Любезный друг, присаживайтесь! – он увлек Пьера за собой, усадил на оттоманку, сунул в одну руку стопку водки, в другую блюдо с пирожками. – Пейте, друг мой, по вашему изможденному виду можно понять, что выпить вам совсем не помешает! Вот расстегайчик с уткой – закусывайте!
– Кондрат, – раздался ленивый голос юноши с усиками, – если то, по чему ты сейчас столь бессовестно топчешься – моя повесть, то уверяю тебя: месть моя будет страшна. Сам будешь вновь раскладывать ее по порядку – листок к листку.
Рылеев только махнул рукой и, отойдя к окну, жадно вчитался в письмо. Мужчина постарше, с обветренным лицом и ямочкой на подбородке, подошел к Пьеру, пожал руку, представился:
– Бестужев Николай Александрович, капитан-лейтенант на фрегате «Проворный», историограф и директор Адмиралтейского музея.
– Именно за это мы называем его «Мумия», – язвительно заметил юноша. На что Бестужев добавил, не поведя и бровью:
– А это мелкое манерное создание, способное лишь на нездоровую критику – мой брат Сашка. Ежели вы, Петр Григорьевич, следите за новинками отечественной словесности, то должны знать его как поэта Александра Марлинского.
– Николя, ты несносен, – подал голос Марлинский и потряс зажатыми в руке бумагами: – Что за почерк, я ничего не могу разобрать! Как я должен отдавать это в печать? Придется самому все переписывать… Господа, я не верю, что человек, научивший меня держать в руке перо, может карябать такие каракули! Ты что, на качающейся палубе их писал? Оттого и название такое странное? У Пушкина и то почерк понятнее, а тот славится своей куриной лапой вместо пера… Кондрат, помнишь тот случай, когда ты не разобрал вирши Сан Сергеича и напечатал «тревожных дум», когда в оригинале было «привычных»? Вот шуму-то было!
– Просто мои думы всегда были «тревожными», а Александр Сергеевич к своим, похоже, привык… – пробормотал Рылеев, не отрываясь от письма.
Николай подошел к брату, скрестив руки на груди, присел на стол рядом с ним и усмехнулся.
– А не поиметь ли тебе индюка на заднем дворе, редактор гребаный? Ему не нравится название моего очерка? «Об удовольствиях» – разве это звучит плохо?
Будто ненароком он поддел ногой ножку стула, на котором сидел брат, отчего поэт с грохотом повалился на пол вместе со стулом. Лежа на спине и громогласно хохоча, Марлинский продолжил разговор:
– «Об удовольствиях» – ха, это звучит не просто плохо, а отвратительно! У нас приличное издание, «Полярная звезда» не на чердаке делается! Если я напечатаю такой заголовок, то все будут считать, что мы рекламируем заведение мадам Полин, что на Садовой.
– М-м-м! Шарман… – улыбнулся Николя и мечтательно поднял глаза к потолку, а Марлинский привычным движением поднял свой стул, водрузил его на место и хохотнул:
– Разумеется, читателей в таком случае заметно прибавится, но они будут особого рода… Сам понимаешь, скатываться в пошлость мы не имеем права. Правда, Кондрат?
– Назови «Об удовольствиях на море», – все так же, не отвлекаясь от письма, сказал Рылеев. – Ведь Николя пишет о море… как, впрочем, и всегда…
– Разумеется, я пишу о море, о чем еще будут читать нормальные мужчины? – Николай махнул рукой на рассыпанные по полу листы и фыркнул: – Не эти же многословные бредни о рыцарях и принцессах?
– О рыцарях любят читать дамы, – попытался оправдаться Марлинский.
– Наши дамы по-русски не читают, им французскую чушь подавай! – презрительно фыркнул Николай, но тут Пьер решил вставить свое слово:
– Читают. Некоторые, лучшие из женщин, читают.
Братья Бестужевы только сейчас вспомнили о госте и заинтересованно переглянулись. Николай расплылся в усмешке:
– Так господин Каховский приехал из деревни в погоне за богатой невестой?! А что, понять можно…
– Вы, любезный, оскорбить меня желаете?! – вскричал Пьер, едва не подпрыгнув от возмущения. Но тут на его плечо легла рука – Рылеев попытался его успокоить:
– Не обращайте внимания, мой дорогой друг, и простите Бестужева. Николя славится своими глупыми шутками, которые, кстати, имеют свойство сбываться. Так что, если вы действительно преследуете подобную цель, то она непременно сбудется, а если нет – то просто извините дурака. Наш Николя совсем одичал на своем корабле, разучился держать себя в приличном обществе.
Николай примиряюще развел руками – с кем, мол, не бывает? – чокнулся стопкой с Каховским и весело подмигнул. Рылеев вдруг ахнул и, глядя в письмо, вскричал:
– Господа, вы не поверите! Генерал Пассек пишет, что этот славный юноша был настолько смел, что посмел ухаживать за сестрой Пестеля в присутствии самого Павла Ивановича! Более того, полковник так восхитился этой храбростью, что отзывается о Каховском только в лестных выражениях! Однако, Петр Григорьевич, вы – неординарная личность!



