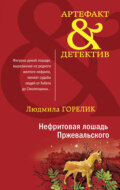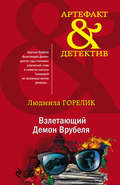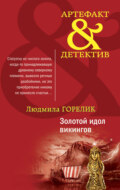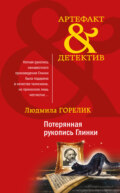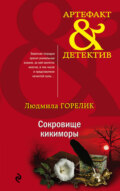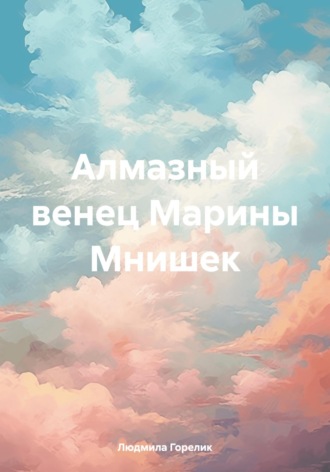
Людмила Львовна Горелик
Алмазный венец Марины Мнишек
Алмазный венец Марины Мнишек
1956 год. Железяка с камушками.
Июнь, позднее утро, одиннадцатый час, но на узкой улочке народу не видно: здесь всегда мало прохожих, а проезжие и вовсе редкость. Улица одноэтажная, это даже не совсем улица, а ее отпочковавшийся придаток – небольшое ответвление деревянной, с частными домиками, улицы, загнанное почти к самому Днепру. Впрочем, домики стоят в два ряда, как положено, и перед каждым огороженный штакетником палисадник. Солнце уже припекает, две идущие по дороге девочки щурятся на солнце.
Той, что поменьше, лет семь. Ей недавно начали отпускать косы – в школу ведь скоро, пусть идет с косами. Толстые каштановые косички, еще совсем короткие, завязаны полинявшими и чуть помятыми атласными голубыми ленточками, все лицо девочки покрыто крупными веснушками. При ходьбе она размахивает эмалированным трехлитровым бидончиком, пока пустым. Девочку зовут Люба, ее отправили на край улицы, к Фирсихе, за молоком. Семья Фирсенковых держит корову и продает молоко соседям. Второй девочке, Ларисе, лет восемь, льняные волосики ее короткие, мягкие и торчат во все стороны – вряд ли она причесывалась сегодня, – веснушки у нее мелкие и только на носу. Эта несет облезлую дерматиновую сумку, хозяйственную, с двумя ручками, и тоже помахивает ею. Она послана за щавелем, который в больших количествах растет на дальнем, т.н. Посадском, лугу. В эту пору щавель еще сочный, свежий, и жители улицы часто собирают его для супа – посылают обычно детей. Посадский луг большой и очень красивый. Он принадлежит совхозу, и конный сторож (объездчик) гоняет собирателей, чтоб не топтали траву.
Обе девочки в поношенных ситцевых платьях, босые. Теплая дорожная пыль мягким ковром ложится им под ноги или, напротив, взметается крохотными фонтанчиками – это если специально топать. А они топают. Ух, как взметается, до самых коленок, эта пыль…
– А знаешь, почему такое название – Посадский? – спрашивает Люба. – Ей хочется похвастаться своим знанием перед старшей девочкой – ведь Лора уже ходит в школу.
– Это так неправильно называют, – отвечает она. Правильно Пасацкий – потому что там скот пасут!
– Да? – неуверенно переспрашивает Люба. – А папа говорил, что раньше были такие посады, вроде улицы, где люди тоже жили…
– Ну, кто ж знает, что раньше было… А сейчас коров пасут! Поэтому правильно – Пасацкий. – рассеянно отвечает Лариса. И переводит разговор на более интересную тему. – Вчера мамка меня с собой к полковничихе брала!
Ее мама ходит раз в неделю убирать в дом полковничихи, на соседнюю улицу. С собой она обычно берет одну из старших дочерей. Девочки помогают: протирают мебель, поливают цветы…. Поскольку полковничиха каждый раз дарит детям что-нибудь – то пряник, то конфетку, то подпаленный утюгом красивый кружевной воротничок – Лариса и ее сестра, Шура, соперничают между собой – каждая хочет пойти «убираться» к полковничихе. На этой неделе, значит, тетя Катя брала с собой Лариску.
– Подарила полковничиха что-нибудь? – с искренним любопытством спрашивает Люба.
– Скляночку! Смотри какую красивую…–Лариса достает из глубокого накладного кармана своего ситцевого платья «скляночку». Это кусок фарфоровой чайной чашки – с нежным рисунком, с золотой каемочкой по краю…
– Красивая! – восхищается Люба. Девочки останавливаются посреди дороги, разглядывают осколок.
– Вот тут цветок нарисован, только не весь виден – дальше листик начинается, но он развалился – показывает Лариса. – У полковничихи еще такие чашки есть.
– Ты разбила? – с ужасом спрашивает Люба.
–– Нет! Сам полковник. Утром, еще до нашего прихода. Мамка стала убирать, а я скляночку себе попросила. Полковничиха и дала.
Украшенные рисунком скляночки – ценность. Найдя осколок более-менее красивой посуды, дети его хранят, делают с ним «секретики» в песке, показывают друг другу, оценивают, у кого лучше… А эта скляночка необыкновенная: тонкая, фарфоровая, рисунок нежный и почти весь сохранился – повезло Ларихе.
Она осторожно прячет скляночку обратно в карман и обращается к Любе.
– Пойдем со мной за щавлем! К Фирсихе на обратном пути зайдем!
– Не, – возражает Люба. – бабушка ругаться будет. Мне одной не разрешают на Посадский луг ходить.
– А мы не пойдем далеко, я сама объездчика боюсь… Мы здесь, с краю пособираем, за Курчихиным двором… Там тоже щавля полно!
Люба колеблется: бабушка за долгое отсутствие не похвалит. Но все же желание прогуляться с Лариской на луг побеждает.
– Бабушке скажешь, что Фирсиха ждать заставила, пока процедит молоко, – скажешь – поздно сегодня корову доила! – добавляет Лариса, видя ее колебания.
Посадский луг огромный! Трава там высокая, сочная, девочкам, как они говорят, «по шейку», щавеля полно – крупного, отборного. Но собирать там опасно: объездчик, если увидит может и нагайкой хлестнуть, и щавель отберет, да еще вместе с сумкой… Чтобы не встретиться с объездчиком, многие предпочитают искать здесь, на самом краю луга, сразу за огородами. Люба тоже собирает в Ларискину сумку – домой принести щавель нельзя, бабушка будет ругать за самовольство. Прямо за Курчихиным огородом заросли лопуха и крапивы, среди них вросшие в землю обломки какого-то древнего фундамента, щавель там плохо растет – пробивается сквозь щебень, рядом с камнями… Все ж полсумки они набирают довольно быстро.
– Может, хватит? – сомневается Лариса.
– Смотри, королек! Сейчас поймаю! – Поставив на землю бидончик, Люба подкрадывается к бабочке, складывает ладони «домиком» … Взмах крыльев – яркая бабочка улетает, а девочка с размаху падает на землю, как раз не торчащие среди зарослей лопухов камни…
Лариса подбегает, помогает подняться.
– Коленку разбила?
Люба морщится, хнычет, на глазах появляются слезы.
– И коленку, и руку ободрала… – всхлипывает она, рассматривая большую царапину на руке. – Руку даже больше! – Она смотрит на руку, царапина глубокая, кровь течет. – Ого, как поцарапала!
– На что это ты напоролась? – Лариска, нахмурившись, осматривает шрам. – Это не кирпичом! Там бутылку, наверно, кто-то разбил!
Обе, согнувшись, осматривают под лопухами каменные остатки давнего строительства…
– Тут, смотри – железяка какая-то…. –Люба с трудом выдергивает и поднимает вдавленную между камнями железяку. Она погнутая, заржавленная – или это грязь? Девочки рассматривают царапину – глубокая! Неужели этой железякой?
– Как бы столбняка не случилось… – озабоченно бормочет Лора.– Промыть надо! В сажалке пойдем, промоем… Вот вытри пока, Любашка…. – она срывает лопух и протягивает подруге.
Люба морщится, осторожно обтирает кровь, разглядывает рану.. Глубокая… Как ножом полоснула! Что ж это такое острое, неужели такая острая железяка?… Она опять подбирает брошенную было железку, рассматривает ее внимательно.
– Это не железом распорото, это вот чем – камень тут в железяке… прямо врос в нее… А острый какой! – восклицает девочка. – Посмотри, Лариха!
Они внимательно разглядывают железку. По обе стороны большого камня обнаруживаются другие, поменьше. Те не острые, наоборот круглые. А этот, самый большой, острый, со сколом! Скол и царапается.
– Ишь, грязи на них сколько, – Вздыхает Лариса.– И в железку вросли!
Чтобы получше рассмотреть камни, Люба обтирает их лопухом. Они не простые, граненые на ощупь… Как же они попали в эту железку?
Возле сажалки, пока Лора шлепает босыми ногами по краю воды и гоняется среди береговой осоки за синими стрекозками, Люба обмывает раны на руке и ноге. Они саднят, девочке больно. Тем не менее она с любопытством поглядывает на лежащую в траве рядом с бидончиком находку.
Вот и до нее дошла очередь: Люба и ее в воде пополоскала, потерла осокой – грязь въелась сильно.
– Смотри, Лариха, – кричит девочка. – Смотри, как на солнце блестят!
Отмытые камешки и впрямь красиво блестят: солнце преломляется в их гранях…Большой, посредине железки, не такой ровный, но и от него отражаются солнечные блики..
– Об него и порезалась… – вздыхает Люба. – Острый какой, зараза! А железяку эту я себе возьму – красивая! Не сама, конечно, а камешки красивые – блестят!
– Да! – соглашается Лариска. И достает свою скляночку. – Смотри, если вместе они, как хорошо получается! – девочки рассматривают вдвоем. Скляночка тонкая, с нежным рисунком, железка тоже симпатичная – там, где грязь отмылась, поблескивает желтым, а камешки вообще ярко блестят. – Давай сделаем двойной секретик? Рядом их положим в песок и стеклышком прозрачным прикроем….
1606 год. Марина едет к мужу.
Дочка сандомирского воеводы Мнишка не то чтобы избалована, просто она знает себе цену. Марине недавно исполнилось семнадцать лет, а она уже московская царица! Ну, без пяти минут…
– Алмазный мой венец! – Марина произносит это, не оглядываясь на служанку – она смотрит в зеркало. Горделивая посадка головы оттеняет юное нежное лицо, каштановые волосы уже убраны и заколоты, как надо. Марина берет украшение из рук служанки и сама осторожно пристраивает на прическу эту узкую золотую полоску, усеянную алмазами: посреди очень крупный и вокруг него несколько помельче. Дочь сандомирского воеводы Ежи Мнишка любит драгоценные камни, алмазный венец подарил ей отец на пятнадцатилетие, в этом дорогом и нарядном уборе увидел ее впервые будущий супруг. И сразу влюбился! Почти два года назад, в доме отца, в Самборе… Марина улыбается, вспоминая ту встречу. Привезенный почти случайно в Самбор родственником Мнишков князем Вишневецким, опальный московский царевич был поражен ее красотой! С тех пор она находится в зоне всеобщего внимания… Про царевича тогда всякие слухи ходили, большинство считало его самозванцем, желающим войти на московский престол при помощи поляков, через женитьбу на Марине.
Глядящаяся в зеркало, девушка усмехается: эти слухи явная глупость. Даже она, совсем юная тогда, два года назад, смогла отличить истинную страсть. Московский царевич искренне и страстно признавался ей в любви, это было настоящее чувство. Он даже открылся ей – признался, что не царского происхождения. Но поклялся, что будет царем! Она ему поверила. И конечно, только человек знатного рода на такое чувство способен… Сказать правду, и родной отец, и отец духовный (а Марина богобоязненна), уговаривали ее согласиться на этот брак, твердили об ее особой миссии для процветания родной страны и католической веры. Однако, не случись того признания, в котором она услышала подлинное чувство московского «царевича», она, возможно, отказалась бы от брака с загадочным чужеземцем. И никто б гордую дочь воеводы Мнишка не заставил! Ни отец, ни Папа – никто.
Человек этот вызвал ее любопытство еще до знакомства. Старшая сестра Урсула, вышедшая не так давно замуж за князя Вишневецкого, вначале упоминала о нем в письмах как о забавной диковинке: муж, мол, поселил в своем поместье некоего московского пришельца, который рассказывает странные байки, «в духе Теренция». Ну прямо сказки – заслушаешься! Якобы он чудом оставшийся в живых сын московского царя Ивана… Но, кстати, образован неплохо… «Вначале мы, конечно, воспринимали его как потеху, смеялись над этим неизвестного происхождения москвитянином. Однако знаешь, Марина, в нем действительно чувствуется порода… – добавляла сестра. – Муж уже почти поверил ему».
А потом привезенный в Самбор Вишневецким странник, вызвал большой интерес отца Марины, Ежи Мнишка: держался москвитянин по-европейски, был образован, его рассказы о царском происхождении слушались с интересом… И, пожалуй, не так уж они невероятны… Да и неважно, в конце концов, кто этот человек на самом деле, но, если вступит на царство, от него может быть польза. Воевода нюхом почувствовал выгодную авантюру, открывающую ему возможность выпутаться из долга. Дело в том, что Ежи Мнишек сильно задолжал королю и не знал, как расплатиться – бывает… И главное – этот приезжий москвитянин (кто б он ни был, а ведь претендует на Московское царство!) страстно влюбился в пятнадцатилетнюю Марину.. Совершенно не скупясь, он обещал отдать за нее Смоленскую, Северскую, Новгородскую, Псковскую земли, привести Московию в католичество, озолотить Мнишков, помочь королю Сигизмунду в споре со Швецией… Щедрые обещания! Даже если половину исполнит… Воевода Мнишек был по натуре авантюрист и циник, за ним с молодости всякое водилось. Сейчас дела воеводы шли не слишком хорошо: и репутация подмочена, и долги большие. Мудреная, «в духе Теренция», история москвитянина заинтересовала его. А не так и глуп этот парень…
Разумеется, все это было вилами по воде писано…. Остро стояли вопросы: сядет ли на трон, да и сев, будет ли выполнять обещанное? Многоопытный канцлер Ян Замойский предостерегал воеводу: «Кость падает иногда недурно, но бросать ее, когда дело идет о важных предприятиях, не советуют». Тем не менее, находящийся в сложном материальном положении, склонный к авантюрам и нечистый на руку воевода Мнишек поставил на самозванца, а юная пани Марина поверила в счастливое будущее москвитянина: если и не царь, то, возможно, будет им… Она тоже была честолюбива, почему бы ей не стать московской царицей?!
Мнишек взялся помогать «московскому царевичу». Ему шли навстречу, хотя и с большим скрипом: помощь, которую путем интриг, выхлопотал Мнишек от короля Сигизмунда для нового друга, оказалась не слишком действенной. Однако повезло в другом: в Московии случилась смута. Семейство Годунова было низвержено самими московитами, при совсем малой помощи поляков, и вот, «царевич Дмитрий» на троне! Теперь он получил полное одобрение польской стороны. В Кракове состоялось его обручение с дочерью сандомирского воеводы.
Теперь Марина – без пяти минут супруга Московского царя – едет к нему при огромном сопровождении (более двух тысяч человек), которое царь Димитрий оплачивает очень щедро. Он торопит в письмах ее отца и в ответ на жалобы продающего дочь циника, шлет, шлет деньги и дорогие подарки…. Разве может женщина не ответить на столь безудержное чувство?! И почему гордой дочери польского воеводы не выйти замуж за царя Московии?!..
Уже полгода прошло с того счастливого дня, когда их обручили в Кракове, правда, жениха на обручении не было, его представлял московский посол. Все эти полгода царь Дмитрий писал письма новоявленному тестю, торопя с прибытием. Выбрались в путь не сразу, да и путь тяжел. Через Днепр под Оршей перебирались два дня: мосты сносило. Дальше шли по чужим землям, общались с новыми подданными. Обе стороны не понимали друг друга и не нравились друг другу… «Московиты» не нравились полякам неотесанностью и излишней открытостью, казались неразвитыми и навязчивыми. «Литва» представлялась русским спесивой, слишком требовательной и грубой.
Первую ночевку устроили в Красном (под Смоленском). Стояла апрельская распутица, гордым шляхтичам палатки ставили прямо по грязи, только царице была приготовлена новая изба. То же повторилось при второй ночевке. «Бедновато для первого раза…», – так высказались гости, и воевода Мнишек потребовал от зятя увеличения содержания. Тотчас было прислано – московский царь не скупился. На второй день Мнишков и свиту приветствовали царские посланники знатных родов, при тысячной охране. Для царицы были приготовлены пятьдесят четыре белые лошади и три кареты, обитые внутри соболями.
21 апреля свадебный поезд остановился в Смоленске.
Вернуть этот город, уже побывавший в предшествующем столетии польско-литовским, долго мечтала польская шляхта. Теперь мечта, кажется, сбывалась. Встречать новую царицу вышли десятки тысяч людей. Вышло смоленское духовенство с образами Пресвятой богородицы, вышел прочий знатный люд с хлебом-солью. Бояре устроили обед. Стол был обилен и непривычен для гостей. После пира Юрий Мнишек заболел. Из-за этого в Смоленске пришлось на несколько дней задержаться.
2016 год. Гибель Антона.
Беда пришла неожиданно. Стояло прекрасное июньское утро. Любовь Львовна Лопухова встала в тот день поздно. Ей было шестьдесят семь лет, уже четыре года она не работала. Зимой она, вместе с дочкой и внучкой, жила в своей двухкомнатной квартире в центре Смоленска, лето же проводила на окраине города, где у семьи имелся доставшийся от бабушки маленький домик. До недавних пор Любовь Львовна воспринимала этот домик с небольшим садиком как дачу – сажала там грядки, ухаживала за яблонями (их имелось целых три!)… Там и воздух лучше, и зелень кругом, как в деревне. Однако прошлой зимой ее внучка Наташа вышла замуж. Муж, хотя и старше Наташи на шесть лет (ему уже тридцатник стукнул) квартиры не имел. Но поселиться вместе с тещей и бабушкой молодой жены в их квартире не захотел. Тут-то и пригодилась полузаброшенная дачка на окраине. Любовь Львовна с дочерью Ольгой остались теперь в квартире вдвоем, однако летом довольно часто ходили к Наташе с Антоном – в саду покопаться, на воздухе побыть и вообще посмотреть, все ли благополучно у молодых.
Ольга, как когда-то и Любовь Львовна, работала в библиотеке. Как и Люба, ее дочь вышла замуж рано и по любви, но за человека с больным сердцем. Муж ее рано умер, дочку растила одна, мать помогала. Сейчас Ольге уже сорок пять и живет по-прежнему с матерью. Люба очень хотела бы выдать ее вновь замуж, но, видно, не судьба. Ухажеры за эти годы, конечно, находились, однако не складывалось. Поначалу были серьезные причины: и мужа не так легко забыть, и дочке маленькой не всякий в отчимы годится. А теперь уж, наверно, просто привередливая стала. Сегодня у Оли выходной, и она с раннего утра, часов в семь, пока не жарко, побежала к Наташе – помочь в огороде, тем более, молодые намечали большой ремонт.
А Любовь Львовна с ней не пошла. В последнее время она стала плохо спать. Вот и сегодня заснула под утро, поэтому вставать начала в одиннадцатом часу. И почти сразу зазвонил телефон. «Ольга» – высветилось на экране.
– Алло, Олюша, – Любовь Львовна поднесла телефон к уху, одновременно засовывая босые ноги в тапки. – Что там у вас?
– Мама, ты знаешь… Только не пугайся, пожалуйста… – голос дочки дрожал, так что Лопухова и впрямь испугалась.
– Что там случилось?! Не мямли! – закричала она, уже не думая, что босыми ногами на полу стоит. – Что с Наташей, Оля?!
– Мама… С Наташей ничего, она со мной… – Ольга опять запнулась. – Антон… Антон приболел, мама… Мы сейчас в Красном Кресте. Ты дома оставайся! Мы придем к тебе.
– Нет-нет, – Закричала Любовь Львовна. – Я сама к вам приду, в больницу! Ждите там! В каком он отделении?
– Он… Я тебя возле входа встречу! – И Ольга выключила мобильник.
До Красного Креста Люба дошла минут за двадцать, запыхалась сильно. Ольга стояла возле ворот, без Наташи.
– Наташа там с ним? Что такое случилось? – спросила Люба уже на ходу (они двигались к корпусам). Ольга опять начала мямлить.
– Понимаешь, Антон упал…
– Выпил, что ли, вчера?
– Нет, мама… – Ольга запнулась, помолчала. Потом заговорила еще более взволнованно, голос ее дрожал. – Это случай! Я даже не знаю, как тебе сказать, но это случай! Он упал с чердака, как папа. Тоже ночью. Как папа, пошел посмотреть… Когда я пришла, его уже скорая увезла, а полицейские Наташу допрашивали…
Люба, пораженная, села на удачно подвернувшуюся скамейку. Неужели так бывает? Чтобы второй раз? Тот ужас почти тридцатилетней давности, когда погиб ее муж Сережа, Ольгин отец, опять ожил в памяти. Сергей упал с чердака того самого дачного домика, где теперь Наташа жила. Ночью. Пошел посмотреть, потому что показалось, будто кто-то ходит… Теперь понятно, почему Ольга так боится ей сказать. Ольге тогда было шестнадцать. Ужасный случай! Но как такое могло повториться?
– Он жив? – собрав волю в кулак, спросила Любовь Львовна.
И Ольга отрицательно покачала головой.
1606 год. Спасение из огня и подарок.
Смоленск, в котором пришлось задержаться на несколько дней, сгладил впечатление от трудностей, испытанных в первые дни после перехода через границу. Здесь встречали хорошо. Не только для «царицы Марьи Юрьевны» (так Марину предпочитали называть местные жители) были построены специальные палаты, но и все польское сопровождение расположили неплохо, освободив от жителей окрестные дома. Двухтысячная свита Марины вздохнула легче. Здесь прилично приняли, только вот навязчивые какие-то: не знают своего места! Рассматривают с откровенным интересом, не смущаясь, могут даже подойти ни с того ни с сего, заговорить… А кто они такие?! Да попросту дикари неотесанные – одно слово, московиты! Посмеиваясь над местными манерами, гости от хозяев привычно отстранялись, не желали с ними общаться и не стеснялись показывать презрение. Хозяева до поры терпели, старались даже проявить гостеприимство: они еще не понимали, что их ждет, надеялись даже на лучшее… Ведь было вокруг и без того нехорошо. Единства внутри страны давно уже не существовало, слухи приходили в Смоленск разные. Однако новому царю, сыну Грозного Дмитрию Ивановичу, бояре присягнули. И теперь, на пути следования кортежа, к «царице Марье Юрьевне» относились с должным подобострастием, даже проявляли рвение, чтобы услужить ей. Надо сказать, что юная польская пани и без пяти минут московская царица своему новому положению радовалась и, в отличие от свиты, старалась не слишком сердиться на местных. Надо привыкать. Теперь это ее подданные! Она была уверена в себе: уж она-то справится, она сумеет управлять этим отсталым народом – будет вести его к истинной католической вере, будет приучать к польским порядкам… Царь Дмитрий Иванович любит ее! Он станет ее в этих начинаниях поддерживать. Этот народ еще не знает, что их нынешний царь, будучи в Польше, согласился принять тайное католичество… Что ж если и не царевич… Семнадцатилетняя Марина, как и ее отец, смотрела на вещи широко. Был не царевич, а стал царь – к тому же, сами москвитяне его на трон и возвели! Поляки пока что принимали минимальное участие в местных дрязгах– пришли, можно сказать, на готовое.
Однако местный быт и вообще местные порядки пани Марину раздражали, ничто не нравилось ей тут. После того, как отец царицы, воевода Мнишек, получил желудочное расстройство от обильных и непривычных местных блюд, для Марины стали готовить привезенные с собой польские повара. Вместе с ней обедали фрейлины и некоторые придворные. Марине такое положение дел нравилось: хоть отдохнет она от местных… За несколько дней после перехода границы она успела уже устать от чужих обычаев, от чужой еды… В своем кругу обедать куда приятнее. Придворные были привычно предупредительны, галантны, их поведение и шутки понятны Марине. В своем кругу легко было поддерживать беседу – не то что с местными, не умеющими пользоваться вилкой… С переходом на польские блюда обед стал пышным, торжественным, затягивался допоздна.
Было уже совсем темно, когда в сопровождении фрейлин и охраняющих царицу жолнеров Марина вернулась к себе. По дороге обсуждали недавно случившийся пожар. Загорелось от свечи у переписывающего бумаги пахолика (прислужника). Потушили не сразу, пахолику обожгло лицо и выжгло глаза. «Нехорошая примета!» – высказалась одна из фрейлин, но Марина оборвала ее. Не стоит ожидать плохого! Все будет хорошо. Она еще не добралась до Москвы, а супруг уже засыпал ее драгоценностями! На каждую остановку от границы шлет и шлет! Вот и вчера прислал… Марина любит драгоценности, это знает ее супруг. Перед обедом она долго разглядывала присланные им жемчуга, топазы, изумруды…. Нет, это потом, в Москве! Она наденет подарки мужа при встрече с ним. А сейчас, на обед, она украсила прическу алмазным венцом, что отец раньше подарил. Это в нем она была, когда Димитрий увидел ее в доме отца, в Самборе.
Кроме драгоценностей супруг прислал соболей, парчовую ткань… Марине захотелось перед сном еще раз осмотреть подарки, примерить, покрутиться всласть перед зеркалом – она и во время обеда об этих подарках думала! Теперь она отпустила всех фрейлин, жолнеров тоже отправила – только двое остались, ходить вокруг дома, снаружи охранять. И служанке велела идти прочь – она сама!
Не раздеваясь, в нарядном платье и украшениях, Марина достала подарки. Вначале ткани! Приложила к себе златотканую парчу – как красиво! И венец ее алмазный к этой парче подходит… Вертясь перед зеркалом, девушка задела подсвечник. Он опрокинулся, свеча упала на ткань. Парча вспыхнула.
Марина растерялась – чем гасить? Она стала сбивать еще невысокое пламя разложенными на столе соболями. Однако мех вспыхнул так же, как ткань. Языки огня стали высокими. Теперь вся комната была озарена огнем. Огонь перешел на мебель, уже и платье на Марине тлело, а местами и вспыхивало, огонь разгорался.... Девушка кинулась к окну – и упала. Ослепший обезображенный огнем пахолик вспомнился ей. Она задыхалась, ухватившись слабеющей рукой за раму, пытаясь дернуть ее на себя. Где жолнеры?
Мощный удар мужского кулака снаружи разбил стекло. Марину подхватили, вытащили на улицу. Спаситель, не жалея себя, руками, гасил на Марине тлеющее платье. В свете пламени девушка увидела чужую, не польскую, одежду, светлые, стриженые по местному обычаю «горшком» волосы, выпачканное сажей и искаженное волнением лицо. Мальчишка какой-то. Совсем молодой, ее ровесник по виду, и, конечно, из местных, быстро, голыми руками, загасил ее тлеющий наряд. И уставился на нее, пораженный.
– Кто ты, красавица? – спросил он. – Ты, должно быть, из свиты матушки нашей царицы Марьи Юрьевны?
К горящему дому уже бежали люди, тащили воду в ведрах, гнали специальные подводы с наполненными водой бочками. Испуганные жолнеры искали и не находили Марину. Ей стало стыдно, ее гордость была оскорблена: она, царица, сидит на земле в обгоревшем, прожженном местами насквозь, платье, и какой-то смерд только что охлопывал ее всю руками, гася огонь. Не дай Бог, кто-то из свиты узнает… Вот что с ним теперь делать? Казнить? И тут же еще более устыдилась: он ее спас. Вон, руки у него не только стеклом изрезаны, но уже и волдырями покрываются … Сильный ожог. Она опять вспомнила обожженное лицо пахолика – сегодня б и ее огонь мог обезобразить, если б не смерд этот.
– Как тебя зовут? – спросила она, не отвечая.
Иван вопрос понял. В Смоленске со времен Витовта жили рядом с русскими и белорусы, и поляки, и литовцы. Еще во время детских игр Ваня усвоил от соседских ребятишек много польских слов – понимал разговорную речь и мог даже объясниться.
– Я Ивашка, Ванька то есть, – с готовностью ответил он.– В подмастерьях у гончара Федула Маркелыча.
– Я помолюсь за тебя! – снисходительно заявила Марина. – Руки лечи! На вот тебе, в награду! – И она, сняв с головы, протянула ему свой алмазный венец. –Это тебе! Иди с миром!
К ней уже бежали фрейлины и некоторые паны из свиты. Спохватились! Не дай бог увидят разговаривающей со смердом.
– Иди, иди, что стал?! – оглядываясь на них, торопливо говорила ,Марина подмастерью этому. И с осуждением добавила. – Неотесанный какой! В саже весь вывозился…
Он и пошел. Подарок спасенной им из огня важной пани за пазуху спрятал – держать больно было. В руках уже началась сильная боль, пузыри надувались, превращаясь в один огромный пузырь. «Эх, не смогу работать… Федул Маркелыч браниться будет, – думал он. – А где острога?» – вспомнил он вдруг. Он ведь на ночь глядя пошел щуку брать, с острогой. За Днепровскми воротами если выйти, да повыше по берегу пройти, иногда хорошие щуки попадались. Добираться пришлось через весь город – Ивашка в юго-западном посаде жил, где гончарные мастерские. Да не дошел – увидел сполохи в окне, спасать кинулся. «Ну, ладно, Бог с ней, с острогой, – решил Ванька. – Видно, на пожаре выронил. А красавица какая эта литовская дивчина! Важная – сразу видать…».
Он оглянулся и увидел, что спасенную им пани уже окружили ее соотечественники. А один военный отделился от всех и идет за ним. «Чего это он? Что нужно? Может, не так что-то сделал?» – испугался Ивашка и побежал. Пан тоже ускорил шаг, но потом отстал.
1986 год. Гибель Сергея.
Любина бабушка умерла в тысяча девятьсот семьдесят пятом году. Домик она оставила внучке, и после смерти бабушки Люба с мужем поселились в ее маленьком домике на окраине. Поженились они еще в семьдесят втором, но поначалу пришлось жить у Любиных родителей, в центре. Комната у молодых была отдельная, по тем временам неплохо, а все равно жизнью с родителями тяготились. Поэтому, когда Любина бабушка умерла, переехали в ее домик.
Покрасили его снаружи, внутри переклеили обои, большой ремонт не делали и жили так почти десять лет. После смерти Любиных родителей стали жить в их квартире, а домик на Краснофлотской сохранили, он превратился в дачу, туда переселялись на лето. Сергей даже решил отремонтировать его: не только покрасить, но и крышу перекрыть. Он многое умел сам.
Однако не успел. Однажды ночью, под утро, только светлеть начинало, Люба проснулась от какого-то движения на чердаке.
– Мыши, что ли? – спросила она мужа (он тоже проснулся). И обратилась к коту, который с ними спал. – Ты куда ж смотришь, Барсик?
Но Барсик, поначалу настороживший уши, потянулся и заснул снова (или сделал вид, что спит), а Сергей, напротив, начал вставать с кровати.
– На мышей не похоже. А похоже на человеческие шаги. Может, дети балуют… Пойду посмотрю, что там… – Не одеваясь, прямо в майке и трусах, только ноги сунул в сандалии, он вышел на крыльцо. А Люба перевернулась на другой бок, но спать не стала – ждала его возвращения.
Вход на чердак у них был с улицы. В деревянной чердачной стене имелась небольшая дверка, запирали ее висячим замком, а иногда и просто прикрывали – кому ж чужому чердак понадобится, тем более, не так просто туда подняться? Чтобы залезть, нужно было приставить лестницу. Лестница находилась недалеко, возле сарая. Летом ее не уносили из сада. Что ночью кто-то чужой будет по саду ходить, даже в голову не приходило.
Люба уже начинала дремать, как вдруг послышался грохот, за ним вскрик Сергея. Женщина вскочила с кровати, побежала к двери, едва накинув халат. Оля тоже проснулась, побежала за ней.
Лестница валялась возле дома, одна дощечка выбита от удара о яблоню…. Чердачная дверца распахнута… Какой-то стон или хрип слышался под деревом, он был страшнее всего. Люба пошла на этот стон. С неестественно вывернутой головой под яблоней, под сломанной лестницей, лежал Сергей.
2016 год. Лейтенант Демочкин проводит допрос.
Все это Люба вспомнила, сидя рядом с дочерью на лавочке недалеко от терапевтического корпуса Красного ,Креста. Когда отец погиб, Оле едва исполнилось шестнадцать. Сейчас дочка старше ее, тогдашней. «Бедная… – Лопухова взглянула на дочь с тревогой, – Пришлось ей вторично все переживать». Ольга, как будто читала ее мысли, откликнулась тотчас.