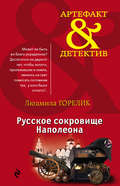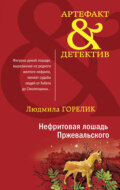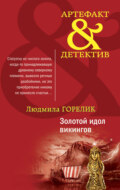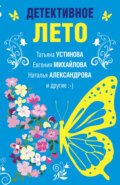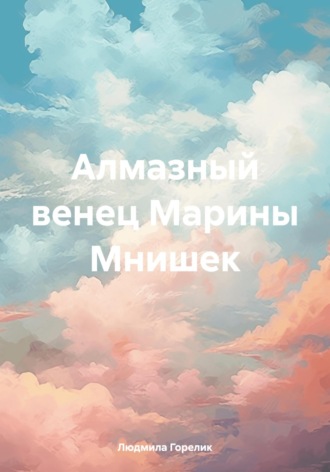
Людмила Львовна Горелик
Алмазный венец Марины Мнишек
Уже будучи в Москве, она получила письмо от папы Павла V. Перечитала его два раза, сидя на непривычно-жесткой монастырской лавке возле дающего слабый свет крохотного окна и даже всплакнула – слеза упала на исписанную красивым почерком бумагу. Письмо было очень теплое, с напутствиями, пожеланиями. Папа напоминал об их предотъездном разговоре – о ее обещании оставаться хорошей католичкой и продвигать истинную веру в стране, которой она теперь владеет. Писал Павел V возвышенно и туманно, и только одно предложение отличалось твердой конкретностью – ради этого предложения и было написано письмо. Оно содержало ответ на важный вопрос о ходе церемонии вступления Марины в брак с царем Московии. В личном письме, направленном Папе ранее, Марина спрашивала главу Римско-католической церкви, можно ли ей перед бракосочетанием исповедоваться православному священнику и принять из его рук причастие – Московская епархия настаивает на этом. Вопрос разозлил Папу, ответ был отрицательным. «Долг твой, дочь моя, состоит не в уступках московскому разврату, не в потакании чужой ереси, а, напротив, в твердом руководстве заблудшими сими и в приведении твоих подданных к истинной вере».
Марина опустила руку с письмом на колени и тяжело вздохнула: на первых порах ей придется нелегко. Даже при поддержке мужа.
На взгляд новоявленного царя, проблема, вставшая перед его иноземной невестой, была проста, как пряник. Однако другие стороны так не думали. Дело в том, что церемония вступления в брак, по замыслу устроителей, совмещалась с церемониями принятия православия и посвящения новой царицы на царство. Московская Епархия действовала дипломатически, и требование перейти в новую веру не выдвигалось прямо, однако в ходе праздника Марина должна была исповедоваться православному священнику и принять от него причастие. Это был деликатный и тяжелый вопрос. В разговоре с Мариной жених подчеркивал важность исполнения этой «формальности» – таково требование православной церкви. Ему не удалось убедить Патриарха и других сановников православной церкви обойти некоторые правила. Сам-то он легко склонялся к компромиссу. Еще два года назад, будучи в Польше, он принял тайное католичество, чтобы заручиться поддержкой поляков и не иметь препятствия веры в обручении с Мариной. В Москве, разумеется, о его католичестве не знали, здесь он, будучи тайным католиком, по-прежнему проходил все православные обряды. Легко, без «этих предрассудков» он живо и не поддаваясь сомнениям, обходил конфессиональные проблемы, был уверен, что сможет лавировать столько, сколько понадобится. Этот получивший образование и не лишенный сердца молодой человек с юных лет владел многими умениями проходимца («вора», как тогда называли подобных ловких и весьма маневренных людей). Без этих умений он не прошел бы трудный путь от способного, но шалопутного, причиняющего много неприятностей родителям отрока Гришки из семьи галичских дворян Отрепьевых до «царя Дмитрия Иоанновича». И уж само собой, ложь, основополагающая способность любого вора, давалась ему чрезвычайно легко.
В данном случае, однако, компромисс зависел не от него. Гордая дочь Сандомирского воеводы Марина, на многое готовая ради Московского престола, в католической вере оказалась тверда и на предлагаемые женихом компромиссы (например, «для вида» принять православное причастие) без благословения Папы отказалась. Благословения Папы быть не могло: напротив, знавшая о тайном католичестве нового московского царя польская сторона ждала, что теперь, во время коронации, он откроет тайну и соотечественникам. «Царь Дмитрий Иоаннович», получив и здесь отказ, только вздохнул. Никто, никто не понимал его, никто не был готов поддержать временный компромисс. "Ничего, как-нибудь образуется…» – думал слегка расстроенный этой неувязкой, но по-прежнему счастливый жених.
Приготовления к венчанию и коронации шли своим ходом. За три дня до назначенных торжеств Успенский Собор был уже готов к ним. Оклады икон сияли золотом, серебром, драгоценными каменьями. Огромные рулоны самой лучшей парчи на красном сукне лежали пока в кладовой – в день коронации парчой будет устелена дорога к храму. Служащий при церкви столяр, Еремка Рукавицын, уже немолодой тридцатилетний мужик, совместно со своим подмастерьем Игнашкой Кожемякиным, заканчивал порученную ему работу по возведению приступочек перед иконами Владимирской Божьей Матери и митрополитов Петра и Ионы. Приступочки эти, или «колодочки», как назвал московский патриарх Игнатий, поясняя суть работы, призваны были физически облегчить для вступающей на трон царицы обряд миропомазания. Согласно Чину коронации невеста-иноземка должна была принять перед миропомазанием православное причастие. В данной ситуации оно приравнивалось к крещению хотя этот нюанс предпочитали не обсуждать: и без того вокруг процедуры возникли нежелательные споры. Однако здесь готовившие процедуру православные иерархи стояли твердо: без причастия, которое примут совместно царь и новоявленная царица, проводить Чин коронации они не станут. С царем-то сложностей не возникало, он разумеется, был согласен причаститься перед свадьбой (о принятии им католичества никто из православных церковников не подозревал), а вот невеста опечалилась. Православные иерархи иноземной печали как бы не заметили (ничего, привыкнет), к подготовке Чина отнеслись со всей ответственностью. Поскольку новобрачная была росту невысокого, Игнатий придумал изготовить на полу перед иконами не приметные для общего глаза «колодочки»: Марья Юрьевна встанет на них и приложится к иконам красиво, не поднимаясь на цыпочки и не вытягивая шею. А народ в церкви даже и не заметит, что царица на приступочки поднялась: пол и пол. Над этими-то «колодочками» и трудились теперь столяр Рукавицын с подмастерьем. Уже заканчивали – полировали, чтоб красиво вышло, чтоб не выделялись эти специально сделанные приступочки на общем фоне – как и было так.
– Дядя Ерема, – рассказывал Игнашка задумчиво, – А чванливы сильно эти паны, что с царицей прибыли… И на расправу скоры. Надысь Фомку Кирпатого за то, что не быстро посторонился, лях из свиты царициной дубинкой поколотил. У Фомки опосля того рука правая скурвилась, не выпрямляется, а одной работать-то несподручно – ежели так останется, что делать? Зашел к нему давеча: сидит плачет. Неужто за подаянием теперь ходить, говорит.
Столяр молча шлифовал дерево. Игнашка тоже другую «колодочку» шлифовал. Не дождавшись реакции, заговорил опять.
– А сказывают, что царица наша матушка Марья Юрьевна тоже не православной веры? – спросил он, любуюсь на свою работу. Колодочка стала гладенькой и точно того цвета, что пол в церкви; как всегда здесь стояла. – Врут, должно? –
Он оторвал взгляд от шлифуемой колодочки и поднял глаза на мастера. Тот тоже оторвался на миг от работы. Но взгляд не переменился, оставался суровым..
– Цыц, Игнашка! Не тебе о том рассуждать. Врут, а ты повторяешь… Для того и иконы – завтрева-то приложится к ним царица и нашу веру примет. Подай-ка мне ветошку помягче – Строго проговорил он, кивнув в сторону кучи инструментов и ветоши для полировки. И опять стал тщательно натирать дерево. – Вот сейчас-то, глядикось, отполируем, матушка наша Марья Юрьевна поднимется на приступочку, к иконам приложится и нашей веры станет, православной. А как еще?
1606 год. Большая свадьба и маленький обман.
И вот настало восьмое мая. Церемония, срежиссированная лично «Дмитрием Иоанновичем», отличалась большой торжественностью. После помпезного переноса в Успенский собор царской короны туда двинулась процессия приглашенных. По разостланной на дороге бархатной, затканной золотом парче шли знатные московские дворяне, потом царь (уже в короне) с царицей, одетой по-русски – в расшитое драгоценностями вишневое бархатное платье, а замыкали процессию знатные гости из Речи Посполитой.
Внутри собора не обошлось без суеты. Распорядители более всего боялись, как бы не произошло осквернение храма. И основания к такому страху имелись. Польский посол, например, гордо ходил по храму в мегерке с перьями. Распорядители поступили хитро: попросили у посла его головной убор, чтобы подержать – уж больно, мол, хороша шапочка, дотронуться бы… Пан самодовольно-презрительно снял мегерку, дал ее в руки этим дикарям. А те… быстро вынесли шапку из церкви. На возмущение посла отшучивались: «В церкви не студено, да и солнце не печет… Смотри – тут все без шапок. Вернем, как на двор выйдешь!». «Надули мы литву», – говорили они между собой, довольные этой придумкой.
Вообще стороны изначально плохо понимали друг друга. Православная служба показалась гостям невнятным, скучным и слишком длительным бормотанием. Миропомазание происходило по греческому обряду. И сам обряд, и следующая за ним коронация полякам были непонятны. Они вообще были убеждены, что Марина стала супругой московского царя и, следовательно, московской царицей еще зимой, после обручения в Кракове. Там была веселая польская свадьба. А тут так, формальное мероприятие для московитов… Они и вилкой-то пользоваться не умеют, а туда же – думают, что умные, обряды свои блюдут… «Но приходится пока с ними считаться!» – снисходительно усмехались гости.
Церемония была сложной и продолжительной, потому что включала в однодневное действо и обручение, и коронацию, и венчание. Предусматривались переходы из Успенского собора в Грановитую палату и обратно.
Мало кто из присутствующих внимательно и досконально отслеживал происходящее. Не только литовцы, но даже не все местные понимали смысл и порядок многочисленных составляющих трехэтапного торжества. Так, многие не заметили, что после венчания царь с царицей не подошли для принятия православного причастия с последующим целованием икон. По «Чину» царица Марья Юрьевна должна была приложиться к иконе Владимирской Богоматери, образам митрополитов Петра и Ионы, а затем получить причастие из рук московского патриарха. Для православных это символизировало бы ее приход к православию. Однако накануне Папа Римский отказал Марине даже в этом компромиссе – она не должна была принимать причастие из рук православного священника.
Ни царица, ни царь к иконам на миропомазание не подошли. Был исполнен только русский венчальный обряд.
Поляки на данном этапе были удалены из церкви, многие из них полагали, что причастие состоялось. Присутствующие московские гости, видя русское платье царицы и общую пышность церемонии, тоже думали, что все в порядке. Сильно опечалились только прекрасно разбирающиеся в тонкостях литургии православные иерархи.
Через три века историки будут отмечать, что ключевой ошибкой и толчком к последующим событиям стал отказ невесты-чужестранки от даже формального присоединения к православию. Марина, оставаясь верующей католичкой, не посмела нарушить запрет Папы Римского на принятие причастия из рук православных священников. Обряд коронации был не соблюден, смазан, наиважнейшую его часть пропустили… И обе стороны как бы не заметили этого. Привыкший к обманам Димитрий поддержал невесту, надеясь, что в суете никто ничего не поймет, что эта ложь, как и многие предшествующие, сойдет ему с рук. Поначалу так и казалось.
1606 год. Недельное торжество и катастрофа.
Его свадьба была не в указный день:
Да на вешний праздник Миколин день
Да бояра-то пошли ко заутрени,
Да Гришка с Маришкой в баину пошел;
Да бояра-то идут от заутрени,
Да и Гришка с Маришкой из баины иде…
(Историческая песня «Григорий Отрепьев»)
Торжества по случаю свадьбы продолжались в Москве еще более недели. Все это время Димитрий был очень счастлив. Самозванец не видел, как постепенно накалялась обстановка вокруг него.
Девятое мая, следующий после венчания день, пришелся на праздник Николы вешнего. Продолжать свадебные торжества в день святителя Николая было серьезным нарушением обычая, это воспринималось православными как кощунство. Свадьбы, да и вообще шумные гулянья, были в этот день запрещены. Однако уже с рассвета в Кремле гремели барабаны, играла музыка. Молодые сбросили русское платье – оно предназначалось лишь для коронации и венчания. Царь был теперь одет в любимый им гусарский костюм, а царица нарядилась в платье польского покроя – царь сам просил ее об этом: он пожелал, чтобы с этого дня Марина была одета по-польски – так, как она привыкла.
Супруг делал все, чтобы угодить молодой жене, но ее свита, включая отца новоявленной московской царицы, Юрия Мнишка, мало думала об интересах Марины, сложность положения шляхтенки ее соотечественниками не учитывалась. После венчания обострились ссоры между боярами и польской свитой царицы: поляки теперь потребовали еще большего уважения – в частности, при распределении мест за праздничным столом. У Лжедмитрия не получалось уравновесить интересы собственных бояр и гордых посланцев Речи Посполитой, а семнадцатилетняя Марина не могла ему в этом помочь. «Улица» тоже была недовольна. Пока что это было тихое осуждение: простые люди перешептывались, на Кремль, откуда доносилась музыка, кидали неодобрительные взгляды.
«Царь Дмитрий Иоаннович», однако, сохранял веселое расположение духа. Он упорно не верил своим приближенным, сообщавшим о стычках между приезжими и местными за пределами Кремля. А стычки уже вечером этого дня начались серьезные. Сопровождавшая царицу из Речи Посполитой огромная, более двух тысяч человек, свита после коронации совершенно освоилась в новых обстоятельствах. Дочь польского воеводы Марина теперь законная царица, полноправная властительница Москвы! Московские подданные в глазах поляков были невежественными, находящимися на более низкой ступени людьми, и после коронации это отношение стало открытым. К вечеру новые властители сильно напились и ударились даже в буйство. Возвращаясь после пира на свои квартиры, они рубили саблями встретившихся по дороге московитов, а жен знатных князей и бояр вытаскивали из карет, издевались над ними. И в последующие дни в городе то и дело вспыхивали бесчинства. Однако царь их не замечал, на донесения не реагировал. В Кремле было пока спокойно.
С утра десятого мая «царицу Марию Юрьевну» пришли приветствовать лица духовного звания. Дарили ей парчу, соболей, рысьи меха, золоченые серебряные кубки… Иноземное платье царицы сильно опечалило иерархов. Но до поры до времени промолчали, ушли с миром. Вечером в Кремле давали торжественный обед – небольшой, для домашних. На этот раз обошлось без споров, веселились, танцевали. Царь был очень доволен.
В среду по православному обычаю был постный день, однако Мария Юрьевна опять угощала «московских панов» в своих палатах. «Дмитрий Иоаннович», не чуя плохого, этот раздражающий подданных прием вполне одобрял.
Пытавшихся говорить царю о приближающейся смуте он наказывал – и слышать ничего такого не хотел. Никакого усиления стражи! Все будет хорошо – ведь он царь, он всего уже добился. Его торжество только начиналось, он был счастлив и верил в успех – ведь ему всегда везло.
Между тем, недовольство в городе, да и в Кремле нарастало. По Москве все более распространялись слухи о бесчинствах польских гостей. Они росли, как снежный ком. Недовольство выражали и простые люди, и бояре самого высокого звания. Во главе «московского заговора» стал опытный и доселе лояльный Лжедмитрию вельможа – князь Василий Шуйский. Самозванец был обречен.
Мятеж созрел в субботу, семнадцатого мая. В летописях его позднее называли «убиение Расстригино». Для Марины, которая только-только начала свыкаться с ролью царицы, это было как гром среди ясного неба.
Ранним утром в Кремль, сметя охрану, ворвалась организованная толпа людей. Для отвлечения внимания они кричали «Пожар! Пожар!». Устремились прежде всего в царские палаты, немногочисленную стражу убили быстро. «Дмитрий Иванович» выпрыгнул из окна. Будучи схваченным, проявил смекалку и чуть было опять не «заговорил» своих врагов, однако не успел – был застрелен. После этого кинулись искать царицу.
В эти утренние часы Марья Юрьевна находилась в верхних палатах в окружении своих фрейлин. Шум, крики о мятеже и весть об убийстве царя быстро распространились по дворцу. Фрейлины метались непричесанные, полуодетые. Мятежники ворвались – крушили все, искали царицу. Охранник и одна из фрейлин были убиты, несколько девушек изнасилованы. Марина, невысокого роста и худенькая, спряталась под юбку пожилой дородной гофмейстерины Барбары Казанацкой и тем спаслась, мятежники ее не нашли.
2016 год. Появляется Леля Шварц.
– Здравствуйте, Порфирий Петрович! Какая неожиданная встреча!
Перед скамейкой остановилась женщина с собакой на поводке – немного полноватая крашеная блондинка «за шестьдесят» в полосатом легком платье. Таких женщин много гуляет в этот час по бульвару возле Любиного дома. Есть и с собаками. У подошедшей дамы собака была беспородная, рыженькая, средних размеров.
Потапов ответил быстро, хотя и не сразу. Несколько секунд все же глядел на даму с собакой молча – то ли не сразу узнал, то ли сильно удивился.
– Здравствуй, Леля! И впрямь – неожиданная…мне кажется. Мы ведь, помнится, в прошлую встречу по именам перешли?
Дама рассмеялась.
– Конечно!. После таких событий, вместе пережитых, как не перейти?! Но ведь год уже с той поры прошел!
Любе показалось, что бывший полицейский озадачен появлением дамы. Будто видит в этой встрече какой-то особый смысл. И надо же – Лелей назвал! Значит, давно знакомы. Это кто ж такая? Вроде, уже видела ее где-то…
Потапов подвинулся на лавке ближе к Любе, как бы давая даме место. Дама уселась рядом с бывшим участковым, скользнула взглядом по Любе и вдруг уставилась на нее.
– Любаша!? – воскликнула она с полувопросом. – Я тебя не сразу узнала, так редко видимся.
Тут и Люба узнала. Это была Леля Шварц, ее одноклассница. Виделись, конечно, в последние десятилетия очень редко. Да, меняются ровесники…
–А чего ты на вчерашнюю встречу не приходила? – продолжала Леля с укором. – Тебя, между прочим, ждали! А ты не пришла и даже не предупредила никого!
Ах да… Вчера Люба должна была идти на встречу выпускников: пятьдесят лет после окончания школы! До случившейся в ее семье трагедии она действительно собиралась. Но, конечно, тут не до встречи – какая ж встреча… Она и забыла… Люба резко опечалилась, опустила голову.
– Вчера на кладбище ездили: девять дней, как зятя моего не стало…
– Ой, – смутилась Леля – Извини… Как жалко! Тем более, еще молодой, наверно. Твоя дочка, мне помнится, в середине семидесятых родилась…
– Нет, – покачала головой Люба – дочки моей муж тоже рано умер, давно, от болезни сердца. А сейчас – это муж внучки, Антон. Совсем молодой, конечно, и внучка моя рано одна осталась. Такая у нас, Лопуховых, судьба.
Любе не хотелось рассказывать – посвящать в подробности своей беды эту давно чужую женщину. Мало ли, что пятьдесят лет назад дружили. Да и какая там особенная дружба… Девочки были совершенно разные. Леля Шварц, лучшая ученица в классе, успевала не только отлично учиться и побеждать на олимпиадах по всем предметам, но и заниматься спортом – она играла за юношескую сборную города по теннису, – а также посещать все дискотеки, все молодежные вечера. Была при этом отчаянная кокетка. Вокруг нее вечно крутились какие-то мальчики, даже из других школ. Подруги ее, как на подбор, отличались веселостью и самоуверенностью, им все давалось легко. А Люба была скромной, училась средне, ничем особенно не выделялась. Теперь она сидела опустив голову и ждала, когда Леля уйдет. Надо было договорить с Потаповым.
Глаза случайно встреченной одноклассницы, между тем, подозрительно заблестели. Вот такой Люба ее помнила: когда математичка задавала трудную задачку и Лелька тянула руку, ее глаза всегда загорались интересом. Эта Лелька легко решала труднейшие математические задачи, класс любовался. Но имелись у лучшей ученицы и недостатки: она была очень настырная, все помнила, всех знала и все-то ей нужно было понять. Шварц обязательно нужно было вникнуть в окружающее, во всем разобраться. Любопытная, короче. Любе эта черта не очень нравилась, она одноклассницы сторонилась. Надо же, внешне безалаберная, веселая, а вмешивается в чужие дела и видит насквозь. Причем, когда и не просят ее.
И сейчас Люба смутилась: не хотелось слишком любопытную Лелю посвящать в свою проблему, да и вообще – зачем повторять при Потапове уже известную ему историю, с ним вообще отдельный разговор. К счастью, Шварц иногда была и чуткая. В данном случае она поняла Любино настроение и повернулась к Потапову.
– Я вижу, что у вас важный разговор, не буду мешать, До скорой встречи, Петрович!
Любе даже показалось, что она Потапову подмигнула. Тот кивнул, как бы приняв ее подмигивание.
А Леля встала, перехватила в другую руку поводок – он натянулся, потому что рыженькая дворняжка тоже радостно вскочила, намереваясь продолжать прогулку, и даже поторопила хозяйку, дернув поводок. Но та чуть задержалась, повернувшись к Любе.
– Я позвоню тебе на днях, – сказала она. – Так давно не виделись! – И многозначительно добавила. – Я на пенсию в прошлом году вышла, время теперь есть. Ты ведь тоже на пенсии? Да, давно не виделись… Кстати, вчера на вечере тебя многие вспоминали, жалели, что не пришла.
2016. Ящик с инструментами.
После завтрака Оля с Наташей отправились на работу: у Оли отпуск кончился, а Наташа и не выходила еще в отпуск – в детском саду, где она работала воспитательницей, ей дали за свой счет несколько дней на похороны. Первое время после похорон Наташа ночевала у мамы с бабушкой. «Это хорошо, что им на работу надо, хоть отвлекутся», – размышляла Люба за мытьем посуды. И о себе подумала: и ей надо бы отвлечься. Они с Потаповым договорились сегодня идти чердак смотреть – все ж тоже занятие. Оно и лучше, что Петрович расследование задумал, а то б она сидела тут одна.
Время еще оставалось, Любовь Львовна решила пройтись пешком. Когда вышла на бабушкину улицу, привычно удивилась переменам, произошедшим здесь со времен ее детства. Окраинная улица по-прежнему состояла из частных владений, но была теперь застроена большими и красивыми домами, иногда двух- и даже трехэтажными. Лишь несколько послевоенных домиков-хибарок оставались неперестроенными – в том числе и ее дача. Домик был все такой же маленький, как при бабушке. Красили, правда, регулярно – в зеленую краску, как еще бабушка любила. Антон собирался расширять строение, да не успел. Как ее Сережа, погиб.
От тяжелых дум отвлек Потапов. Он уже ожидал возле домика – надо ж, помнит и дом бабушкин. Впрочем, что тут удивительного, столько лет здесь участковым оттрубил! Пожалуй, более удивило Любу, что Потапов стоял возле автомашины – уже не очень новой «лады». Вот и Петрович машину купил…
Лестницу бывший милиционер внимательно осмотрел – она оставалась совершенно целой. Хорошая, крепкая железная лестница, ее Антон не так давно покупал. Раньше таких не было. Сережа тогда, почти тридцать лет назад, упал с деревянной, самодельной, там и дощечка при падении вылетела. Как же на такой крепкой удобной лестнице Антон оступился?
– В темноте лез, может, еще не совсем рассвело – да со сна, к тому же, – пробормотала Люба, как бы отвечая на незаданный вопрос. Потапов кивнул. Все может быть.
Дверца на чердак находилась с торца дома, прямо над ней навис конек крыши – чтобы дождь на чердак не затекал. Запирался чердак на навесной замок, который после трагического происшествия поменяли. Прежний нашли в саду недалеко от тела. Демин решил, что лестница стала падать в момент, когда Антон открывал замок, поэтому он тоже слетел. Так и записали, а замок Люба выбросила.
Потапов вначале сам поднялся по лестнице и очень долго рассматривал входную дверцу на чердак. Проводил руками по притолоке оглядывал с фонариком дверную раму. Даже на крышу залез и конек руками потрогал, удовлетворительно хмыкнув после этого.
Было видно, что результат его удовлетворил. Когда, наконец, от осмотра входа оторвался и открыл дверь взятым у Любы ключом, он выглядел, как охотничья собака, принявшая стойку. Но объяснять ничего не стал, только пригласил хозяйку тоже подняться.
На чердак давно уже был проведен свет, они зажгли лампочку. Люба огляделась печально: как здесь все знакомо! В детстве, лет в двенадцать, она иногда ночевала на этом чердаке – начитавшейся книжек девочке это казалось, романтичным, а также нравилось, что у нее есть свой собственный угол, а бабушка разрешала… Утром солнечные лучи пробивались в узкое оконце, будили девочку… Вон ее старая раскладушка прислонена в углу, так и не выбросил никто за все годы.
В целом же чердак был в относительном порядке. Центральная площадка, как и раньше, пустая. А по сторонам в ящиках были сложены старые вещи; их отправляли сюда не одно десятилетие, никто не разбирал эти залежи… Вот здесь Олины школьные учебники – их Сережа сюда перетащил, некуда их девать было. Рядом в ящике она узнала Наташину прошлогоднюю обувь – ну, ее недавно сюда сложили. А вот эти потемневшие от лет ящики стояли еще при бабушке. Здесь, помнится, были обои в рулонах, засохшая краска… – всякая ерунда, которую бабушка берегла для своего домика. Ящик с инструментами был опрокинут: ручная пила, гвозди, еще какая-то дребедень валялись рядом с ящиком.
Потапов сразу к перевернутому ящику и пошел. Потрогал его осторожно пальцами;, опустившись на колени, осмотрел, как лежат рассыпавшиеся предметы; поглядел на свои испачканные пылью брюки и озабоченно произнес, обращаясь к стоящей рядом Любе.
– Видишь – здесь старая пыль лежит, а здесь ее смахнули недавно. Этот ящик опрокинули с неделю назад – как раз, когда Антон упал. Вряд ли Антон мог ночью что-то искать в ящике?
– Нет… – растерялась Любовь Львовна. – Он и не успел бы. Наташа рассказывает, что прошло совсем мало времени, он почти сразу упал. Да и полицейский записал, что он на чердак не залез – лестница опрокинулась, когда он еще стоял на верхней ступеньке.
Ну вот. – Вздохнул бывший милиционер. – Это уже тоненькая ниточка. Почти волосок. Но можно предположить, что здесь кто-то рылся перед приходом Антона. Что-то именно в этом ящике искал: опрокинул и рассматривал внимательно все предметы Нашел ли? –
Он еще раз скользнул взглядом по рассыпанным предметам: ножовка, гвозди, молоток… Нехитрые инструменты домовладельца, и не очень давние. Люба, стоя рядом, тоже внимательно разглядывала, узнавала. Это их с Сергеем молоток… А ножовки такой у них не было, да и гвозди новые. Это уже Наташины с Антоном приобретения. Действительно, зачем Антон стал бы ворошить инструменты ночью? Именно в тот час, когда, с неохотой вылезши из постели, он пришел смотреть, кто может ходить по чердаку? Нет, это точно не Антон рылся. Но теперь и Люба видела, что перевернут ящик недавно и не случайно: инструменты не просто вывалили, а переворачивали, разглядывали… Да кому ж они нужны?! Искали что-то…
Потапов, между тем, внимательно осматривал ящик.
– Старый уже очень, – сказал он, наконец. – После войны таких много было, от патронов ящик. Давно здесь стоит, не помнишь? – обратился он к Любе.
– Давно. Всегда был. Этот как раз еще при бабушке здесь стоял, и в нем всегда были инструменты. Только менялись. Вначале дяди Костины инструменты были…Кажется, он этот ящик и притащил. А потом его оставил, только инструменты свои забрал. Инструменты уж не дяди Костины, а более поздние здесь лежат…
И вдруг Люба вспоминает, спохватывается:
– После дяди Кости здесь только моя железяка оставалась!
Сентябрь 1956 года. Дядя Костя уходит.
Дядя Костя стоит в коридорчике у порога с фанерным чемоданом в руке. В коридорчике уже прохладно, сентябрь на вторую половину пошел. Дядя Костя в зимнем бушлате (чтоб не тащить в руке), на голове фуражка – она у него всегда задрана на самую макушку, седой чуб вьется под ней. Бабушка тоже в теплой ватной фуфайке, и Люба в накинутом пальто.
– Ну, это… Я пошел, – говорит дядя Костя. – Не поминай лихом, Аня.
– Иди-иди, – кивает бабушка, улыбаясь. И оглядывает его внимательно, вместе с чемоданом. – Ничего не забыл? Смотри, все бери, чтоб не возвращаться потом. –
Бабушка улыбается и говорит весело. Но Люба хорошо разбирается в ее интонациях. «…чтоб не возвращаться» здесь главное – и не дай Бог дяде Косте вернуться! Он тоже понимает это. Однако все мнется на пороге.
– А инструменты?! – спохватывается бабушка. – Инструменты-то, самое главное, забыл! Забирай сейчас, чтоб не ходил потом.
Действительно, чемодан дяди Кости подозрительно легок на вид. И при неожиданном бабушкином вопросе мужчина как-то уж совсем теряется.
– Инструменты? – бормочет он. – А что инструменты? Я их, кажется, раньше забрал. Я их раньше перенес туда… Печку когда еще делал… Они там нужны были – печку ж делал.
До бабушки постепенно доходит. Плотницкие, слесарные инструменты при кладке печи совсем не нужны – это даже Любе известно. Значит, дядя Костя давно задумал уход и боялся, что его будут удерживать, не отдавая инструменты – самое дорогое, что у него есть. Бабушкино всегда бледно-смуглое лицо розовеет от сдерживаемого гнева, но голос остается спокойным
– А-а-а, –говорит она, – Ну-ну. Забрал, так и молодец. Так и о чем разговор. Иди с Богом. Пойдем, Люба – она тянет внучку в комнату. – Пойдем скорее, а то простудишься.
Но до Любы тоже доходит: не забрал ли дядя Костя со своими инструментами и железку с камушками? Они там вместе лежали. Железка оказалась в ящике с инструментами еще месяц назад.
В тот день Дурак с Петей подобрали Любину железяку возле рельсины, о которую ее кинул Шпэк, и отдали девочке. Люба пришла домой, сжимая в руке свою вновь обретенную драгоценность, только что, в результате удара о рельс, потерявшую один из маленьких камешков. За квадратным столом в «зале» (так иногда называли единственную в доме комнату, в отличие от занавешенного тканью уголка за печкой) уже сидели гости, собравшиеся по случаю бабушкиного дня рождения. Веселье было в разгаре – все пели.
На позиции девушка
Провожала бойца,
Поздней ночью простилися
На ступеньках крыльца…
– нестройно выводили гости.
Песня слышалось далеко за пределами домика. На вошедшую Любу обратила внимание только бабушка.
– Иди, внученька, поешь, – позвала она девочку. – Я тебе положу буженинки.
Люба хотела идти за стол прямо с железякой, но бабушка остановила ее.
– Ручки-то помой, выбрось эту железку, на что она тебе.
Люба помыла руки в кухне под рукомойником, а железяку положила там же, на табуретку под борт заменяющего раковину таза, да и оставила. Во время вкусного ужина, слушая хоровое пение и радуясь всеобщему веселью, девочка про железяку совсем не помнила. За столом она почти успокоилась, забыла про уличное столкновение со страшным Шпэком и про грубо разрушенный секретик. Она бы еще долго не вспоминала про свою находку, но после ухода гостей дядя Костя подошел к рукомойнику, чтобы почистить зубы, и увидел лежащую на краю табуретки железяку, взял ее в руки, стал рассматривать.