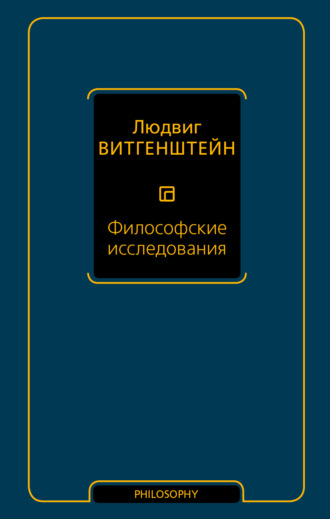
Людвиг Витгенштейн
Философские исследования
22. Идея Фреге[13] о том, что каждое утверждение содержит допущение, или признание возможности утверждения, на самом деле опирается на находимую в нашем языке возможность записать любое утверждение в следующей форме: «Утверждается, что то-то и то-то имеет место». – Но высказывание «то-то и то-то имеет место» не является предложением в нашем языке – пока оно не станет ходом в языковой игре. И если я пишу не: «Утверждается, что…», но: «Утверждается: то-то и то-то имеет место», слово «Утверждается» становится попросту лишними.
С тем же успехом можно было бы записать любое утверждение в форме вопроса с последующим утверждением; например: «Идет дождь? Да!» Доказывало бы это, что всякое утверждение содержит вопрос?
Конечно, мы вправе использовать знак утверждения в противоположность вопросительному знаку, например, или если хотим отличить утверждение от вымысла или предположения. Ошибочно полагать, что утверждение состоит из двух действий, обдумывания и утверждения обдуманного (привнесения истинностного значения или чего-то подобного), и что при осуществлении этих действий мы следуем за пропозициональным знаком сходно с тем, как поем по нотам. Чтение написанного предложения, громко или тихо, и вправду можно сравнить с пением по нотам, но не «обдумывание» (осмысление) прочитанного предложения.
Знак утверждения Фреге отмечает начало предложения. Таким образом, его функция сходна с функцией точки. Он отделяет период в целом от суждения внутри периода. Если я слышу, как кто-то говорит: «Идет дождь», но не знаю, услышал ли я начало и конец периода, это суждение само по себе не способно что-либо мне сообщить[14].
23. Но сколько существует типов предложения? Скажем, утверждение, вопрос и приказ? – Нет, их бесчисленное множество: налицо бесконечное разнообразие способов употребления того, что мы называем «символами», «словами», «предложениями». И эта множественность не является чем-то устойчивым, заданным раз и навсегда; новые типы языка, новые языковые игры, как мы можем сказать, возникают постоянно, а другие устаревают и забываются. (Приблизительную картину этих перемен показывают изменения в математике.)
Здесь термин «языковая игра» призван выразить то обстоятельство, что говорить на языке означает действовать, то есть форму жизни.
Рассмотрим многообразие языковых игр на следующих и других примерах:
Отдавать приказы и подчиняться —
Описывать внешний вид объекта или его размеры —
Создавать объект по описанию (чертежу) —
Сообщать о событии —
Обсуждать событие —
Выдвигать и проверять гипотезу —
Представлять результаты эксперимента в таблицах и схемах —
Сочинять истории и читать сочиненное —
Играть на сцене —
Петь хороводные песни —
Отгадывать загадки —
Придумывать шутки и делиться ими —
Решать арифметические задачи —
Переводить с одного языка на другой —
Спрашивать, благодарить, бранить, приветствовать, молить. —
Интересно сравнить разнообразие инструментов языка и способов их применения, многообразие типов слов и предложений с тем, что говорят о структуре языка логики (включая автора «Логико-философского трактата»).
24. Если не принимать во внимание разнообразие языковых игр, возможно, возникнет склонность задавать вопросы наподобие: «Что такое вопрос?» – Это утверждение, что я не знаю того-то и того-то, или же утверждение, что я желаю, чтобы другой сообщил мне нечто? Или это на самом деле описание моего психического состояния неуверенности? – А крик «Помогите!» можно назвать таким описанием?
Подумай, сколько всего называют «описанием»: описание положения тела в пространстве посредством координат; описание выражения лица; описание ощущения прикосновения; описание настроения.
Конечно, вполне возможно заменить обычную форму вопроса утверждением или описанием: «Я хочу узнать…» или «Я сомневаюсь, что…», – однако это не приведет к сближению различных языковых игр.
Важность подобных возможностей преобразования, например, превращения всех утверждений в предложения вида «Я думаю» или «Я верю» (то есть тем самым в описания моего душевного состояния) станет яснее в другом месте. (Солипсизм.)
25. Иногда слышишь, что животные не говорят, поскольку им недостает умственных способностей. Это означает: «Они не думают и именно поэтому не говорят». Но на самом деле они просто не говорят. Или, точнее: они не пользуются языком – если мы исключим наиболее примитивные формы языка. – Приказывать, спрашивать, рассказывать, болтать – в той же степени часть нашей естественной истории, что и ходьба, еда, питье, игра.
26. Думают, что изучение языка состоит в именовании предметов. То есть: людей, форм, цветов, болезней, настроений, чисел и т. д. Повторимся – именование схоже с наклеиванием ярлыков. Можно сказать, что оно предваряет употребление слова. Но к чему оно подготавливает?
27. «Мы именуем предметы и затем говорим о них, можем ссылаться на них в разговоре». – Как если бы наши дальнейшие действия заданы простым поименованием. Как если бы все сводилось лишь к «разговору о предметах». На самом деле наши действия с предложениями чрезвычайно разнообразны. Возьмем сугубо восклицания, с их совершенно различными функциями.
Воды!
Прочь!
Ой!
Помогите!
Пожар!
Нет!
Ты еще склонен характеризовать эти слова как «имена объектов»?
В языках (2) и (8) не предусмотрено вопросов о том, что как называется. Именование, вместе с его коррелятом, наглядным определением, можно сказать, является самостоятельной языковой игрой. Это означает следующее: нас воспитывают, учат спрашивать: «Как это называется?» – и в ответ звучит имя. Также существует и языковая игра изобретения имен; следовательно, мы говорим: «Это…» и затем используем новое имя. (Так, например, дети дают имена своим куклам и затем говорят о них и с ними. Подумайте в этой связи, насколько своеобразно употребление имени человека, когда мы к нему обращаемся!)
28. Теперь можно наглядно определить имя собственное, название цвета, название материала, имена чисел, сторон света и так далее. Определение числа два, «Это называется “два”» – с указанием на два ореха, – является безукоризненно точным. – Но каким образом можно определить два само по себе? Человек, которому дается это определение, не знает, что именно другой называет «два»; он предполагает, что «два» есть имя, присвоенное данной группе орехов! – Он может так предположить, но, возможно, подумает иначе. Он может и совершить противоположную ошибку, приняв имя, которым я наделил эту группу орехов, за числительное. И схожим образом может принять имя человека, которому я даю наглядное определение, за название цвета, расы или даже стороны света. Иными словами: наглядное определение можно толковать различно в каждом случае.
29. Быть может, ты скажешь: «два» возможно определить наглядно лишь следующим образом – «Это число называют “два”». Слово «число» здесь показывает, какое место в языке, в грамматике мы отводим этому слову. Но это означает, что слово «число» должно быть объяснено, прежде чем станет понятным наглядное определение. – Слово «число» в определении на самом деле показывает место и роль, которые мы отводим данному слову. И можно предотвратить недоразумение, сообщив: «Этот цвет называют так-то», «Эту длину называют так-то» и так далее. То есть: недоразумения порой предотвращаются подобным образом. Но разве у слов «цвет» и «длина» всего один способ применения? – Что ж, они просто нуждаются в определении. – Значит, в описании посредством других слов! И что насчет последнего определения в этой цепочке? (Не говори: «Не существует последнего определения». Это все равно что сказать: «На этой улице нет последнего дома; всегда можно построить еще один».) Насколько слово «число» необходимо в наглядном определении, зависит от того, понимают ли без него другие это определение так, как хочется мне. А это будет зависеть от обстоятельств, при которых дается определение, и от человека, которому оно дается.
И то, как он «принимает» определение, отражается в употреблении им указанного слова[15].
30. Таким образом, можно сказать: наглядное определение объясняет употребление – значение – слова, когда полноценная роль этого слова в языке очевидна. То есть если я знаю, что некто хочет объяснить мне слово, обозначающее цвет, наглядного определения «Это называется сепия» будет достаточно для понимания. – И так можно говорить, пока мы помним о множестве проблем, связанным с выражениями «знать» и «быть очевидным».
Следует уже что-то знать (или быть в состоянии узнать), чтобы оказаться способным спросить об имени. Но что именно нужно знать?
31. Когда показывают кому-то шахматного короля и говорят: «Это король», человек не узнает способы использования фигуры – если только не изучил заранее правила игры вплоть до последнего пункта, формы фигуры. Можно допустить, что он изучил правила игры, никогда не наблюдая фигур воочию. Форма шахматной фигуры соответствует здесь звуку или форме слова.
Можно также допустить, что некто обучался игре, не изучая и не формулируя ее правила. Он, возможно, сначала освоил довольно простые настольные игры, наблюдая за другими игроками, а затем перешел к более сложным. Ему также можно было бы объяснить: «Это король», – если, например, показать одновременно шахматные фигуры непривычной формы. Это объяснение вновь учит его лишь пользоваться данной фигурой, поскольку, скажем так, место для нее уже подготовлено. Или даже так: мы скажем, что объяснение обучает его применению фигуры, если место уже подготовлено. И в данном случае все именно так не потому, что человек, которому мы объясняем, уже знает правила, но потому, что он уже освоил игру в другом смысле.
Рассмотрим дополнительный пример: я объясняю кому- то, как играть в шахматы, и начинаю с указания на шахматную фигуру и слов: «Это – король; он может ходить так…» и так далее. – В данном случае мы скажем: слова «Это король» (или «Эта фигура называется “король”») являются определением, только если обучающийся уже «знает», «что такое фигура в игре». То есть он уже играл в другие игры или наблюдал за другими людьми, которые играли, и «понял» – и тому подобное. Далее, лишь при этих условиях он будет в состоянии осмысленно спросить при изучении игры: «Как это называется?» – называется именно в игре.
Мы можем сказать: только тот, кто уже знает, что с этим делать, осмысленно спрашивает о названии.
И можно допустить, что человек, которого спрашивают, отвечает: «Подберите имя сами», – и тому, кто спросил, придется решать самостоятельно.
32. Посещая чужую страну, человек порой изучает язык местных жителей по наглядным определениям, которыми они делятся; и нередко ему приходится догадываться о значении этих определений; и догадки будут иногда верными, а иногда ошибочными.
Теперь, думаю, мы можем сказать: Августин описывает изучение естественного языка так, словно ребенок попал в чужую страну и не понимал, о чем говорят вокруг; то есть словно он уже владел языком, но другим. Или иначе: словно ребенок уже умел думать, но не умел говорить. И «думать» здесь означает что-то наподобие «разговаривать с собой».
33. Предположим, однако, что нам возразят: «Не верно, что вы уже должны овладеть языком, чтобы понять наглядное определение; все, что вам нужно – разумеется! – это знать или догадаться, на что указывает человек, дающий объяснение. Будь то, например, форма предмета, его цвет или число и так далее». – А что означает «указывать на форму» или «указывать на цвет»? Укажи на листок бумаги. – А теперь укажи на его форму – на цвет – на число (звучит нелепо). – Как ты это делаешь? – Скажешь, что «имел в виду» всякий раз нечто отличное. И если я спрошу, как это было сделано, ты ответишь, что сосредоточил внимание на цвете, форме и т. д. Но я спрашиваю снова: как это было сделано? Допустим, кто-то указывает на вазу и говорит: «Взгляните, какой восхитительный голубой цвет – форма не важна». – Или: «Взгляните на изумительную форму – цвет не имеет значения». Несомненно, в каждом случае вы сделаете в ответ на приглашение что-то отличное. Но всегда ли ты делаешь то же самое, когда обращаешь внимание на цвет? Представим различные случаи. Вот лишь некоторые: «Этот голубой такой же, как и тот? Вы видите разницу?» Ты смешиваешь краски и говоришь, что «трудно добиться синевы этого неба».
«Распогоживается, снова видно голубое небо».
«Видишь, эти два оттенка синего смотрятся различно». «Видите синюю книгу вон там? Принесите ее сюда». «Этот голубой сигнальный огонь означает…»
«Как называется этот оттенок синего? – Это “индиго”?» Порой обращают внимание на цвет, прикрывая рукой очертания формы, или не смотрят на очертания, или разглядывают предмет и стараются вспомнить, где видели этот цвет раньше.
Порой обращают внимание на форму, очерчивая ее контуры взглядом, или отводят взгляд и смотрят искоса, чтобы цвет не мешал восприятию, или многочисленными иными способами. Я хочу сказать: подобное происходит, когда человек «направляет внимание на то или на это». Но вовсе не эти способы сами по себе вынуждают нас говорить, что кто-то проявляет внимание к форме, цвет, и так далее. Схожим образом ход в шахматах состоит не просто в перемещении фигуры таким-то способом по доске – и не просто в мыслях и чувствах того, кто совершает этот ход: важны обстоятельства, которые мы называем «разыгрыванием шахматной партии», «решением шахматной задачи» и так далее.
34. Но предположим, что кто-то говорит: «Я всегда поступаю одинаково, когда проявляю внимание к форме: мой глаз следует за очертаниями, и я чувствую…» И предположим, что этот человек дает еще наглядное определение: «Это называется «круг», указывая на круглый объект и испытывая все эти ощущения, – разве тот, кто слышит, не в состоянии истолковать определение отлично, даже при том, что он видит, как взгляд другого следует очертаниям предмета, и даже при том, что он ощущает то же, что и говорящий? Иначе: это «истолкование» может также состоять в том, как он теперь применяет слово, например, на что указывает, когда его просят: «Укажите на круг». – Ибо ни выражение «применять определение так- то и так-то», ни выражение «интерпретировать определение так-то и так-то» не обозначают процесс, сопровождающий дефиницию и ее восприятие на слух.
35. Конечно, имеется то, что можно назвать «характерными ощущениями», скажем, при указывании на форму. К примеру, можно обводить пальцем контуры или следить взглядом за движением пальца. – Но это происходит далеко не во всех случаях, когда «подразумевают форму», и далеко не во всех случаях налицо какой-либо иной характерный процесс. – Кроме того, даже если что-то подобное и повторяется во всех случаях, это зависит от обстоятельств – то есть от того, что произошло прежде и произойдет после указания, – чтобы мы могли сказать: «Он указал на форму, а не на цвет».
Ведь выражения «указывать на форму», «обозначать форму» и так далее не употребляются таким же образом, как следующие: «указывать на эту книгу» (а не на ту), «указывать на стул, а не на стол» и так далее. – Только вообрази, сколь различно мы учимся употреблять выражения «указывать на этот предмет», «указывать на тот предмет», и, с другой стороны, «указывать на цвет, а не на форму», «обозначать цвет» и так далее.
Повторим: в определенных случаях, особенно когда указывают «на форму» или «на число», возникают характерные ощущения и способы указания – «характерные» потому, что они повторяются часто (но не всегда), когда форма или число «подразумеваются». Но известно ли тебе также о характерном переживании указания на фигуру в игре как на игровую фигуру? И все равно можно сказать: «Я подразумеваю, что эту фигуру называют королем, именно фигуру[16], а не тот кусок дерева, на который я указываю». (Узнавать, желать, запоминать и т. д.)
36. И здесь мы поступаем так же, как во множестве подобных случаев: поскольку мы не состоянии выделить конкретное телесное действие, которое называлось бы указанием на форму (в противовес, например, указанию на цвет), мы говорим, что соответствует этим словам духовное [умственное, интеллектуальное] действие.
Где наш язык предполагает тело и где оно отсутствует, там, можно сказать, есть дух.
37. Каково отношение между именем и именованным? – Что ж, каково оно? Рассмотрим языковую игру (2) или другую: там обнаруживается, в чем состоит это отношение. Это отношение может также состоять, среди многого прочего, и в том, что, услышав какое-либо имя, наше сознание рисует себе картину именуемого; и также состоит вдобавок в том, что имя написано на именуемом предмете или произносится, когда указывают на предмет.
38. Но именем чего выступает, например, слово «этот» в языковой игре (8) или слово «это» в наглядном определении «это называется…»? – Если не хотите сбить с толку, лучше всего вообще не называть эти слова именами. – И все же, как ни странно, слово «этот» названо единственным на свете подлинным именем; а все прочее, что мы называем именами, является таковыми лишь в неточном, приблизительном смысле.
Эта причудливая точка зрения возникла из стремления сублимировать логику нашего языка – если можно так выразиться. Надлежащий ответ таков: мы называем «именами» самые разные слова; само слово «имя» употребляется во множестве способов, которые совершенно различно соотносятся друг с другом; – но среди них отсутствует употребление слова «этот».
В общем-то, верно, что, предоставляя наглядное определение, например, мы часто указываем на именуемый объект и называем имя. И точно так же, предоставляя наглядное определение, к примеру, мы произносим слово «это» одновременно с указанием на предмет. И слово «это», и имя часто занимают одно и то же положение в предложении. Но сугубо характерно для имени, что оно определяется посредством указания «Это N» (или «Это называется “N”»). Однако разве мы даем определения: «Это называется “это”» или «Это называется “этот”»? Налицо связь с пониманием именования как, если можно так выразиться, некоего таинственного процесса. Именование проявляется как причудливая связь слова с объектом. – И на самом деле осознаешь эту причудливую связь, когда философ пытается выявить отношение между именем и предметом, глядя на объект перед ним и повторяя имя или даже слово «это» бессчетное количество раз. Ведь философские проблемы возникают, когда язык пребывает в праздности. И в данном случае мы вполне можем представить себе именование как некое чудесное действие рассудка, словно крещение объекта. А еще мы можем применить слово «это» к объекту, как бы обращаясь к объекту как к «этому» – странное использование слова, несомненно присущее исключительно философии.
39. Но почему возникает желание превратить конкретное слово в имя, когда оно очевидно не является именем? – Причина в следующем. Человек поддается искушению опровергнуть обычное восприятие имени. Можно сказать так: имя на самом деле должно обозначать нечто простое. И этому возможно привести такие обоснования. Слово «Нотунг», скажем, является подлинным именем собственным. Меч Нотунг[17] состоит из частей, соотнесенных между собой особым способом. Если их соединить иначе, Нотунг исчезнет. Но ясно, что предложение «У Нотунга острое лезвие» имеет смысл независимо от того, цел ли Нотунг или сломан. Но если «Нотунг» – имя объекта, этот объект перестает существовать, когда Нотунг ломают на части; и поскольку никакой объект уже не сопоставлен имени, оно утратит значение. Но тогда предложение «У Нотунга острое лезвие» содержит слово, которое лишено значения, а следовательно, само предложение не имеет смысла. Однако оно имеет смысл; значит, должно быть нечто, всегда соответствующее словам, из которых состоит предложение. Таким образом, слово «Нотунг» должно исчезать при анализе смысла, а его место займут слова, именующие нечто простое. Разумно назвать эти слова подлинными именами.
40. Давай для начала обсудим это положение нашего довода: слово не имеет значения, если ему ничто не соответствует. – Важно отметить, что слово «значение» используется вопреки нормам языка, если его употребляют, чтобы обозначить нечто, «соответствующее» слову. Иначе: обозначение имени смешивают с носителем имени. Когда г-н N. N. умирает, говорят, что умер именно носитель имени, а не значение. И бессмысленно утверждать второе, ведь если бы имя утратило значение, не имело бы смысла говорить «Г-н N. N. умер».
41. В § 15 мы ввели имена собственные в язык (8). Теперь предположим, что инструмент с именем «N» сломался. Не зная этого, A подает Б знак «N». Имеет ли в данном случае этот знак какое-либо значение? – И что делать Б, когда он получает этот знак? – Мы не решили, как тут быть. Можно было бы спросить: что Б сделает? Что ж, возможно, он будет стоять в растерянности или покажет А обломки. Здесь могут сказать: «N» утратило значение, и это выражение следует понимать так, что знак «N» невозможно дальше употреблять в нашей языковой игре (если мы не дадим ему новое значение). «N» также мог утратить значение, поскольку, по любой причине, инструменту дали другое имя, и знак «N» больше не используется в языковой игре. – Но можно представить и некое соглашение, по которому Б качает головой, когда A просит подать сломанный инструмент. – Тем самым приказ «N», можно сказать, вновь обретает место в языковой игре, пусть инструмент больше не существует, и знак «N» имеет значение, даже когда носитель этого имени прекращает существование.
42. Но имеет ли значение в языковой игре имя, которое, например, никогда не использовалось для инструмента? – Допустим, что «X» – именно такой знак и что A подает этот знак Б – что ж, даже для подобных знаков найдется место в языковой игре, и Б, возможно, придется ответить на них снова покачиванием головы. (Можно счесть это принятой между ними шуткой.)
43. Для большого класса случаев – хотя и не для всех, – в которых мы используем слово «значение», его можно определить так: значение слова – это его употребление в языке.
А значение имени порой объясняется указанием на его носителя.
44. Мы сказали, что предложение «У Нотунга острое лезвие» имеет смысл, даже если Нотунг расколот на части. Это так, потому что в данной языковой игре имя используется и в отсутствие его носителя. Но можно вообразить языковую игру с именами (то есть со знаками, которые, конечно, следует причислять к именам), в которой имена употребляются лишь при наличии носителя; следовательно, их всегда можно заменить указательным местоимением в сочетании с указующим жестом.
45. Указательное «этот» невозможно использовать без носителя имени. Можно сказать: «Пока существует некий этот, имеет значение и слово “этот”, будь этот простым или сложным». – Но это не превращает слово в имя. Напротив: ведь имя не используется с указующим жестом, лишь объясняется его посредством.
46. Что лежит в основании идеи, будто имена на самом деле обозначают нечто простое?
Сократ говорит в «Теэтете»[18]: «Если не ошибаюсь, доводилось слышать, что некоторые люди говорят: нельзя объяснить первичные элементы – скажу так, – из которых состоим мы сами и все остальное; ведь все, что существует само по себе, можно лишь назвать, никакое другое определение невозможно, нельзя сказать, что оно есть и чем не является… Но то, что существует само по себе, следует. именовать без всякого дальнейшего определения. Следовательно, невозможно поведать о любом первичном элементе; ибо оно – только имя и ничего более; имя – все, чем оно обладает. Но как то, что состоит из этих первоначал, является сложным, так и имена элементов становятся описательным языком, если их объединить. Ведь сущность речи – составление имен.»
И «индивидуалии» Рассела[19], и мои «позиции» («Логикофилософский трактат») были такими первичными элементами.
47. Но каковы простые части, из которых состоит действительность? – Каковы простые части стула? – Это куски дерева, из которых он собран? Или молекулы, или атомы? – «Простой» означает: не являющийся составным. И тут важно вот что: в каком смысле «составным»? Совершенно бессмысленно рассуждать о «простых частях стула».
И снова: состоит ли из частей мое зрительное представление этого дерева, этого стула? И каковы его простые составные части? Многоцветность – лишь один вид сложности; другим видом, к примеру, является ломаный контур из прямых отрезков. А о кривой можно сказать, что она составлена из восходящих и нисходящих сегментов.
Если я говорю кому-то, не вдаваясь в объяснения: «То, что я вижу перед собой, является составным», он вправе спросить: «Что вы подразумеваете под “составным”? Ведь это может означать что угодно!» – Вопрос «Является ли составным то, что ты видишь?» приобретает смысл, только если уже определено, о каком виде сложности – то есть о каком сугубом употреблении данного слова – идет речь. Если было принято, что зрительный образ дерева называется «сложным», когда мы видим не один ствол, но и ветви, то вопрос: «Является ли зрительный образ этого дерева простым или сложным?» и вопрос: «Каковы его простые составные части?» очевидно имеют ясный смысл – ясное употребление. И конечно, ответом на второй вопрос будет не: «Ветки» (это ответ на грамматический вопрос: «Что тут называется простыми составными частями?»), а скорее, описание отдельных ветвей.
А разве шахматная доска, например, не является очевидно и безусловно составной? – Ты, вероятно, полагаешь, что в ней сочетаются тридцать две белые и тридцать две черные клетки. Но мы могли бы сказать, к примеру, что она составлена из черного и белого цветов и сетки квадратов. И поскольку на нее можно смотреть под совершенно различными углами зрения, ты все еще утверждаешь, что шахматная доска безусловно «составная»? – Спрашивать: «На самом ли деле данный объект составной?» вне рамок конкретной языковой игры – все равно, что уподобиться мальчику, которого однажды попросили ответить, в каком залоге выступают глаголы в таких-то и таких-то предложениях, в активной или пассивной форме, а он крепко задумался над тем, означает ли глагол «спать» активное или пассивное действие.
Мы употребляем слово «составной» (и следом за ним слово «простой») огромным числом разнообразных и все же в известной степени родственных способов. (Прост ли цвет клетки на шахматной доске или он состоит из чистого белого и чистого желтого цветов? И прост ли белый или он состоит из цветов радуги? – Прост ли отрезок длиной 2 см или он состоит из двух частей, каждый длиной в 1 см? Но почему не из отрезка в 3 см и другого в 1 см, отложенных в противоположных направлениях?)
На философский вопрос: «Является ли сложным зрительный образ этого дерева и каковы его составные части?» правильным ответом будет: «Зависит от того, что понимать под “сложным”». (И это, конечно, не ответ, а отклонение вопроса.)
48. Применим метод из § 2 к отрывку из «Теэтета». Представим себе языковую игру, в которой содержание этого отрывка имеет смысл. Язык служит для описания комбинаций цветных квадратов на поверхности. Квадраты образую сетку, как на шахматной доске. Тут имеются красные, зеленые, белые и черные квадраты. Слова языка (соответственно) будут «К», «З», «Б» и «Ч», и предложения – ряды этих слов. Они описывают расположение квадратов в следующем порядке:

Значит, например, предложение ККЧЗЗЗКББ будет описывать такое расположение:

Здесь предложение выступает комплексом имен, которым соответствует комплекс элементов. Первичные элементы – цветные квадраты. «Но просты ли они?» – Я не знаю, что можно назвать более «простым», что было бы более естественным в данной языковой игре. Но при иных обстоятельствах я бы назвал одноцветный квадрат «сложным», состоящим, быть может, из двух прямоугольников или из элементов цвета и формы. Однако понятие сложности можно также распространить столь широко, что и меньшую область назовут «состоящей» из большей области и той, которая из нее вычитается. Сравните «сложение» сил и «деление» прямой точкой, расположенной вне ее; эти выражения показывают, что мы порой склонны воспринимать меньшее как результат составления больших частей, а большее как результат деления меньшего. Но я не знаю, следует ли говорить, что сетка, описанная в нашем предложении, состоит из четырех или из девяти элементов! А само предложение состоит из четырех букв или из девяти? – И каковы именно его элементы: типы букв или же буквы? Не важно, что мы выберем, пока удается избегать недоразумений в каждом конкретном случае.
49. Но что означает говорить, что мы не можем определить (то есть, описать) эти элементы, можем их лишь назвать? Это могло бы означать, например, что когда, в предельном случае, комплекс состоит всего из одного квадрата, его описание является просто именем этого цветного квадрата.
Здесь мы могли бы сказать – хотя это легко порождает все возможные философские суеверия, – что знак «К» или «Ч» и т. д. иногда выступает как слово, а иногда – как суждение. Но «является ли он словом или суждением» зависит от ситуации, в которой его произносят или записывают. Например, если A должен описать сочетания цветных квадратов Б и он употребляет слово «К» отдельно, мы в состоянии сказать, что слово является описанием – суждением. Но если он запоминает слова и их значения, или если он учит кого-то еще употреблять эти слова методом наглядного обучения, то мы не можем утверждать, что они выступают как суждения. В данной ситуации слово «К», к примеру, не является описанием; оно называет элемент, но было бы странно на основании этого заключать, что элемент может быть только поименован! Ведь обозначение и описание находятся на разных уровнях: обозначение есть подготовка к описанию. Обозначение – еще не ход в языковой игре, как и расстановка фигур на шахматной доске не является собственно ходом. Можно сказать: когда нечто поименовано, еще ничего не сделано. Это нечто даже имя получило лишь в рамках языковой игры. Это, кстати, имел в виду Фреге, когда говорил, что слово имеет значение только в составе предложения.
50. Что значит говорить, что мы не можем приписать элементам ни бытие, ни небытие? – Можно заметить: если все, что мы называем «бытием» и «небытием», состоит из существования и несуществования связей между элементами, не имеет смысла рассуждать о бытии (небытии) элемента; точно так же если все, что мы называем «разрушением», заключается в разделении элементов, нет смысла говорить о разрушении элемента.
Можно было бы, однако, сказать: бытие нельзя приписать элементу, поскольку, если бы он не существовал, невозможно было бы даже его поименовать, а значит, что-либо вообще о нем сказать. – Но рассмотрим аналогичный случай. Есть нечто, о чем нельзя сказать ни то, что оно длиной один метр, ни что оно длиной не один метр, и это парижский метровый эталон. – Но это, разумеется, не означает приписывать некие особые свойства, мы лишь отмечаем особую роль эталона в языковой игре измерений в метрах. – Представим теперь, что образцы цвета хранятся в Париже вместе с метровым эталоном. Мы определяем: «сепия» означает эталонный цвет сепии, хранимый в герметично запечатанном помещении. И тогда лишено смысла рассуждать, что данный образец имеет или не имеет этот цвет.







