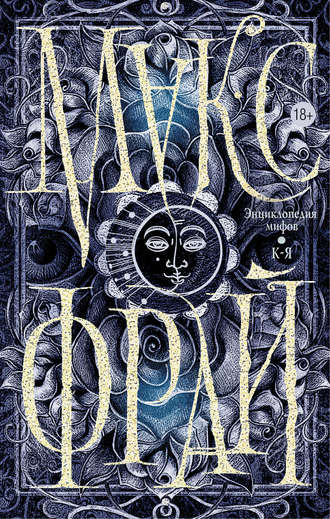
Макс Фрай
Энциклопедия мифов. К-Я
Л
7. Ламия
Так как Гера лишила ее сна, она бродит по ночам. Сжалившийся над ней Зевс даровал ей возможность вынимать свои глаза, чтобы заснуть, и лишь тогда она безвредна.
Вторую женщину звали Юстасия. Она была фотографом из Праги. Я бы не взялся определить ее возраст. Порой мне казалось, что она совсем недавно закончила школу, а иногда – что ей около сорока. В этой женщине вообще не было ничего определенного; не только ее возраст, но даже пол временами вызывал сомнения. Когда она впервые появилась в холле, я принял ее за мальчика: высокая, худая, в мужской жокейской кепке с наушниками, в новеньких голубых джинсах, потертой куртке из тонкой коричневой кожи и тяжелых ботинках, с большим рюкзаком за спиной, она была похожа на белобрысого немецкого подростка – очень типичного! Я даже решил поначалу, что этот мальчик живет в поселке и подрабатывает, доставляя багаж гостей от железнодорожной станции, расположенной в пятнадцати минутах ходьбы от виллы, у подножья холма. Что ж, выходит, призраки тоже способны приходить к неверным заключениям…
Уже через час Юстасия вышла к чаю в жемчужно-серой шелковой блузке и черной юбке до пят, тщательно причесанная, с легким, почти незаметным макияжем и манерами светской львицы.
Очаровывать здесь было решительно некого; впрочем, я здорово сомневался, что она вообще способна кокетничать: Юстасия была амазонкой, Минервой, валькирией, но уж никак не одной из обольстительных дочерей Венеры. А прихорашивалась она исключительно для собственного удовольствия и еще «дабы не погрязнуть в свинстве» – по ее же выражению.
Юстасия считала до десяти, пропуская число «четыре», потому что еще в раннем детстве четверка внезапно показалась ей опасной – до такой степени, что она начинала отчаянно реветь, когда ей доставались сразу четыре конфеты. А повзрослев, Юстасия узнала, что в японском языке один и тот же иероглиф соответствует числу «четыре» и слову «смерть». «Черт, так я все-таки угадала!» – с мрачным торжеством Кассандры отметила она. С этого момента вся ее жизнь была подчинена одной-единственной цели: ускользать от смерти, пока это возможно, и даже некоторое время после того, как к восхитительному слову «возможно» прибавится коротенькая, полная отчаяния приставка «не».
К сверкающему объективу своего фотоаппарата Юстасия относилась с суеверной почтительностью дикаря: когда ей исполнилось двадцать девять лет, она заметила, что люди, чьи портреты ей удались, на этом свете подолгу не задерживаются. С тех пор она снимала только в моргах и на бойнях. Это принесло ей скандальную славу, неплохие деньги и некое подобие душевного покоя, – а большее ей все равно не светило.
Она не чуралась лжи, охотно прощала ее другим и снисходительно позволяла себе, справедливо полагая, что ложь делает жизнь зыбкой, как самодельные мостки над текущей водой, и увлекательной, как прогулка по этим мосткам, а правда иногда становится булавкой, на которой трепещет неосторожная бабочка.
Как все люди, вынужденные разглядывать окружающий мир из своего зарешеченного окна, вместо того чтобы прогуливаться под чужими окнами, Юстасия обладала даром смешить других, но сама смеялась редко. Ее смех вибрировал в диапазоне от густого бархата до пронзительного визгливого звона, и сумрачное тяжеловатое лицо в эти мгновения преображалось до неузнаваемости. «Есть вещи, которые я люблю, есть вещи, которые я ненавижу, и иногда они меняются местами», – как-то сказала она, и тогда я понял, что эта женщина весит меньше, чем мои сны…
8. Лейкпья
…Когда Лейкпья улетает, знахари стараются ее поймать, предлагая ей дары.
Алиса, искусствовед из Лондона, была самой старшей в этой компании. Ее кудри уже серебрились сединой, но у нее хватало достоинства и здравого смысла не прятать глубокие морщины под толстым слоем грима: Алиса демонстративно презирала декоративную косметику. Она умела наслаждаться звучанием слова «безнадежно» и одевалась с непринужденной небрежностью молодой девушки. Ее короткие юбки, похожие одна на другую, как красные кленовые листья, открывали изумленному миру потрясающей красоты ноги.
Алиса жила в ладу со своим именем. Я легко мог представить ее в качестве участницы «безумного чаепития» или «королевского крикета»: вечная блуждающая улыбка свидетельствовала о том, что Алиса вполне способна – не намеренно, а исключительно по рассеянности! – оказаться в Зазеркалье, на мгновение приняв гладкую поверхность зеркала за дверь, ведущую в столовую.
Она была погружена в себя – не в свои мысли, мечты или воспоминания, а именно в себя, и существовал только один способ выманить ее из этого убежища, схожего не с каменным панцирем черепахи, а с хрупкой и неброской раковиной улитки: разбудить ее любопытство, дружелюбное и требовательное, как у ребенка. Мир должен оставаться забавным и разнообразным, если хочет, чтобы Алиса поддерживала с ним дипломатические отношения, – вот так-то.
Ее походка была легкой, как у привидения, она любила забираться в кресло с ногами, сбрасывая туфли, о которых вскоре забывала, и уходила в свою комнату босиком. Так что маленькая Лиза, в первый же день взявшая под опеку всех своих новых подружек, то и дело вприпрыжку мчалась через холл, размахивая черными лодочками Алисы, и громогласно сообщала этому неземному существу, что бродить по дому в одних чулках в середине января не следует.
Алиса знала, что пустые обещания пахнут пылью, как тряпье в шкафу умирающего старика, и умела безошибочно распознавать этот тлетворный аромат. Она любила неодушевленные предметы больше, чем ненадежные подвижные порождения органической материи. Радовалась мелким подаркам: нефритовой пуговице, глиняному кувшинчику, крошечной стеклянной фигурке зебры, но оставалась равнодушной к букетам живых цветов. Шумно изумлялась, что белые ягоды на жестких оголенных ветвях кустарника почти столь же прекрасны, как холодные опаловые бусины. Украдкой гладила старинные каменные перила террасы и равнодушно отворачивалась, когда завороженные ее безразличием белки спускались на нижние ветви деревьев, настороженно поблескивая влажными искорками глаз.
Ее очарование было неотразимо и тревожило разум, как клубы дыма от костра, разведенного в конце долгих зимних сумерек на заброшенном пустыре.
9. Лиса
Широко распространены истории о превращении лисы в человека. ‹…› В китайской и японской традициях рассказы о лисе обнаруживают совпадения с европейскими историями о суккубах, инкубах, роковых невестах и т. п.
Никаких иных жильцов на вилле не было. Но в хрониках тех смутных январских дней фигурирует еще одно действующее лицо.
Франк говорил правду: «фукс» действительно приходил из леса. Вернее, приходила. Лиса была именно лисой, а не лисом: под густым мехом цвета красной охры билось женское сердце, и все прочие лисьи потроха находились в полном соответствии с требованиями женской природы.
Другое дело, что к исчезновению наших гусей рыжая лазутчица не имела решительно никакого отношения. Не в поисках пищи слонялась она по саду. Эта лиса вообще не слишком интересовалась пропитанием. Поесть она могла и наяву.
Да, именно.
Одни люди спят и видят сны; с другими же сны случаются. Становятся происшествиями, настолько достоверными, что, при желании, всегда можно отыскать свидетелей собственных ночных похождений. С нашей гостьей именно так и обстояло: когда ей снился сон, что она превратилась в лису, ее рыжий хвост мелькал среди деревьев.
Итак, пища лисе не требовалась. Куда больше ее занимала моя персона. По ночам рыженькая подкрадывалась к веранде, толкала лапкой застекленную дверь – вотще. Дверь всегда оказывалась запертой. За этим следил Франк: старик ежевечерне совершал обход дома, погромыхивая связкой медных и оловянных ключей. На первый взгляд, его возня походила на ритуал, предназначенный для развлечения заскучавших жильцов, однако Франк свое дело знал. Ни единой лазейки не оставлял он незваным ночным гостям.
Вот и лисичка моя сердито поскуливала на пороге. Я откуда-то знал, что она пришла именно ко мне, но впустить ее не мог: манипуляции с дверными замками были мне в ту пору не под силу, я и кресло-то свое покинуть не умел, даже о возможности такой не догадывался.
Лисичка уходила, разочарованно тявкнув напоследок; я же прикрывал подслеповатые глаза прозрачными веками и размышлял о таинственной цели ее визита. Упивался надеждой, что, дескать, однажды бдительный старик забудет запереть стеклянную дверь, и чудесный зверек проскользнет на веранду, юркнет в холл, забьется под мое кресло, а то и на колени вспрыгнет, превратится в прекрасную незнакомку, как это у них, лис да барсуков, заведено, и тогда я наконец узнаю, что за дело ей до меня, невесомого и почти несуществующего…
Пока я мечтал, лисичка требовательно царапала коготками дверь флигеля, где обитал Франк. Не добившись успеха, вспрыгивала на подоконник и умильно взирала на старика медово-желтыми очами. Всерьез полагала, будто ее лукавое очарование подействует на нашего строгого ключника и он наконец впустит ее в дом. Франк же лишь посмеивался в седые усы, да вертел связку ключей на смуглом морщинистом пальце – дразнился.
– Что ж ты пешком пришла? – спрашивал насмешливо. – Прилетай, тогда и поговорим.
Это был удар ниже пояса. Она и сама предпочла бы видеть сны о том, как превращается в птицу. Но такие видения пока обходили стороной ее изголовье.
10. Лопамудра
…не найдя достойной его женщины, он создает девочку необычайной красоты и ума по имени Лопамудра (от lopa, «потеря», и mudra, «знак красоты»), заимствуя у каждого живого существа лучшее, что в нем есть.
Убедившись, что проникнуть в дом ей не по силам, лиса устраивалась в густом кустарнике, выбирая местечко поближе к веранде. Сворачивалась клубочком. Слушала болтовню женщин. Покусывала кончик собственного хвоста от досады, что не может присоединиться к их беседе. Незнакомки казались ей почти сестричками, все трое. Лиса (женщина, которой снилось, что она превратилась в лису) то и дело узнавала в них себя. Словно была мозаикой, составленной из фрагментов их настроений, поступков, реплик, жестов и поворотов головы. Лисе хотелось прильнуть к их ногам, потереться, приластиться, чтобы скрепить телесным прикосновением смутное, неосязаемое душевное родство. Но в этих снах о доме с башенкой на вершине холма ее желания не имели никакого значения…
Пробуждаясь, она всякий раз разочарованно вздыхает: опять ничего не получилось. Но губы тут же складываются в мечтательную улыбку: не сегодня, значит потом, чуть позже. Когда-нибудь. Предначертанное всегда исполняется, поэтому нужно лишь подождать. Закрыть глаза и сосчитать до ста, как в детстве, когда хотелось ворваться в комнату, где родители наряжали новогоднюю елку: перечисление порядковых номеров от единицы до сотни было чем-то вроде входного билета и немного скрашивало ожидание. Совсем чуть-чуть.
11. Лу Бань
…когда Лу Баню минуло сорок лет, он удалился в горы Лишань и изучал секреты магии.
– А мне у Сэлинджера больше всех нравился другой рассказ, – доносится до меня тихий голос Алисы. – Там парочка уединилась в постели, и тут мужчине звонит муж любовницы, долго и сбивчиво жалуется на жену, которая уже давно его не любит, вот и сейчас, дескать, куда-то исчезла после вечеринки. Тот его утешает, говорит: «Не беспокойся, выпей, ложись спать, она наверняка уехала с друзьями пропустить по стаканчику и скоро объявится». Рогатый муж кое-как успокаивается и прощается, любовники принимаются смущенно обсуждать ситуацию, а через несколько минут телефон звонит снова. Это опять муж женщины, он с облегчением сообщает, что она вернулась. И все. Представляете?! Я потом еще долго надеялась: а вдруг какая-нибудь добрая душа уже «вернулась» домой вместо меня, и, значит, мне… – она осеклась и умолкла.
– И, значит, тебе возвращаться необязательно, – в тишине голос Юстасии звучит, как приговор.
– Ну да, – задумчиво соглашается Алиса. – Лучшее, что может сделать женщина за сорок – исчезнуть, оставив вместо себя мало-мальски пристойного двойника… Только ничего не получалось. Я всегда приходила домой, и никого похожего на меня там не обнаруживалось.
Они еще какое-то время щебечут на веранде, их голоса убаюкивают меня, и я снова погружаюсь в зыбкую разноцветную реальность обманчивых воспоминаний о жизни какого-то смешного мальчика по имени Макс. Пока я сплю, подразумевается, что я – это он и есть…
12. Лха
В тибетской мифологии божества, обитающие в небе. ‹…› Лха бытия возник в результате взаимодействия двух цветов – желтого мужского и голубого женского.
На сей раз пробуждение сопровождалось весьма интенсивными ощущениями – не сказал бы, что они показались мне приятными. Зато я сразу понял, на что это похоже.
Однажды очень давно (или этого вовсе не было?), когда я учился в десятом, кажется, классе средней школы (надо же, какие интересные подробности!), я всерьез разругался с родителями и временно поселился у своей старшей сестры. Ее пятилетние близнецы, мои, стало быть, племянники, обожали по утрам забираться ко мне в кровать и щекотать меня, пока я не проснусь. Этакий беспощадный «биологический будильник». Так вот, мои теперешние ощущения здорово смахивали на те, давно забытые. Только ни постели, ни одеялу с подушкой не нашлось места в моей странной жизни: я снова сидел в красном кресле, к которому так привык, что считал его почти неотъемлемой частью своего зыбкого тела.
Разумеется, никаких племянников поблизости не обнаружилось, и вообще никого не было рядом – ни в просторном холле виллы Вальдефокс, ни в общей столовой, ни на веранде, ни в темном коридоре, ведущем на кухню. Ничего удивительного: стояла глухая ночь, самое тихое время, когда неугомонные полуночники уже отправляются спать, а «жаворонки», привыкшие вставать задолго до позднего зимнего рассвета, досматривают свои сновидения, второпях, как последние страницы каталога дешевого универмага, которому суждена медленная и мучительная гибель в помойном ведре.
Щекотка тем не менее была самой настоящей. Я-то, грешным делом, уже забыл (или никогда не знал?), сколь интенсивные ощущения приходится испытывать живым людям, поэтому поначалу совершенно очумел – нечто в таком роде могло бы случиться разве что с мумией египетского фараона, если бы на беднягу вдруг обрушился приступ зубной боли. Шок, впрочем, прошел довольно быстро, но к тому моменту во мне уже произошли некие таинственные необратимые изменения.
Начать с того, что я вдруг испытал непреодолимое желание потянуться, размять затекшие конечности и чуть не заорал от удовольствия, когда сладко захрустели все мои суставы. Секунду спустя я понял, что не просто как следует потянулся, а выпрямился во весь рост, встал на ноги, так что овеществившаяся наконец задница тут же утратила возможность соприкасаться с красной обивкой кресла. Это было восхитительно – как любая перемена участи; в то же время я испугался так, что в глазах потемнело. Страх сам по себе тоже был новым ощущением: свежим, волнующим и, что уж скрывать, по-своему приятным, хвала адреналину!
Стоило мне покинуть кресло, и волна удивительных перемен захлестнула – то ли меня, то ли темный холл виллы, а вместе с ним и весь остальной мир. Я быстро выяснил, что темнота теперь обладает свойством скрывать от меня очертания предметов – прежде, пока я сидел в кресле, у меня не возникало подобных проблем, я отчетливо видел каждую паутинку в самом дальнем углу под потолком. А когда я зажмурился, меня окружила вовсе уж непроницаемая темнота – и так, оказывается, бывает! Я сжал руки в кулаки, потом разжал, изумляясь тому, какая дивная симфония разнообразных физических ощущений сопровождает сие незамысловатое действо.
Но проклятая щекотка – то, что я поначалу счел щекоткой – не давала мне сосредоточиться на упоительных экспериментах. Теперь этот своеобразный зуд больше походил на страстное желание сделать что-то весьма конкретное… но вот что именно?
По истечении нескольких мучительных мгновений я вдруг понял, что должен покинуть холл и подняться наверх по лестнице. Я еще не знал, куда именно мне следует попасть, и уж тем более – зачем; но был совершенно уверен, что пойму это по дороге. В любом случае я не мог оставаться на месте. Щекотка уже извлекла меня из кресла и теперь гнала вверх по лестнице, пролет за пролетом. На бегу я вдруг подумал, что нечто похожее, наверное, испытывают сказочные джинны, когда очередной повелитель начинает неистово тереть медный бок старой лампы, и громко рассмеялся – не потому, что мое открытие действительно было таким уж смешным, а просто от переизбытка сил, которые надо было как-то расходовать.
Я миновал три этажа, на которых располагались жилые помещения. Над последним этажом были надстроены своего рода антресоли, заставленные книжными полками. Я взобрался туда по узенькой деревянной лестнице, такой шаткой и скрипучей, словно чиновники мюнхенского магистрата устроили здесь своего рода ловушку для любопытствующих гостей и теперь с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь неосторожная полузнаменитость свернет себе шею и будет погребена под обломками рухнувшего сооружения. Но я несколькими длинными прыжками преодолел шаткие ступеньки и с восторгом ученого, совершившего эпохальное открытие, замер перед низенькой белой дверцей. Тело расслабилось в предвкушении последнего рывка к неизвестной пока, но, безусловно, единственно важной в тот момент цели. Я твердо знал, что за этой дверью меня ждет… какая разница, что именно?! Что-то. Ждет. Меня. Надо же!
Дверь не была заперта на замок – впрочем, не думаю, что меня бы это остановило. Переступив порог, я оказался в полной темноте, левая рука инстинктивно начала шарить по стене и сразу же наткнулась на выключатель. Где-то очень высоко вспыхнула тусклая лампочка, и я увидел, что стою перед очередной лестницей. На сей раз лестница оказалась узкой, закрученной причудливой спиралью, с толстыми корабельными канатами вместо перил. Преодолев сорок две изогнутые ступеньки, я оказался в маленькой комнате, освещенной бледным пламенем одной-единственной свечи.
Когда я вошел, все окна в комнате с грохотом распахнулись, стекла жалобно задребезжали, и порыв ветра чуть не сбил меня с ног, но я устоял. Свеча тут же погасла, я услышал, как катятся по деревянному полу какие-то мелкие предметы, а потом раздалось одно-единственное звонкое «Ой!», произнесенное женским голосом – хорошо знакомым мне голосом, к слову сказать. Обитательницы виллы Вальдефокс были здесь, вся троица, но пискнула только Алиса.
– Это просто сквозняк, – наконец сказала Юстасия. Ее голос звучал не слишком уверенно и не столь спокойно, как ей наверняка хотелось бы. Она взяла свечу, чиркнула зажигалкой, и теплый оранжевый свет снова озарил помещение.
– А это тоже сквозняк? – нервно рассмеялась Лиза, тыча в меня пухленьким указательным пальчиком.
– Это не сквозняк, а посторонний мужчина, – тоном школьной учительницы объяснила Алиса.
– Смотритель? – неуверенно предположила Лиза.
– Нет, Франк другой. Он же старенький совсем, – возразила Юстасия. – Неужели ты забыла, как он выглядит? – И требовательно спросила меня: – Вы кто? Только не вздумайте сказать, что вы местный маньяк-убийца. Мы тут и сами… те еще маньячки! – и она неожиданно расхохоталась, закрыв лицо руками.
– Возможно, вы будете разочарованы, но я действительно не маньяк, – вежливо сказал я, удивляясь тому, как странно, оказывается, звучит мой голос. – И даже не посторонний мужчина. Кажется, я здешний призрак. Хотя я уже сам ни в чем не уверен…
Ветер тем временем утих, но не прекратился вовсе, а притаился в углах, словно решил некоторое время посидеть спокойно, посмотреть, как сложатся у нас дела, а уж потом продолжать свою веселую, но разрушительную игру с хрупкими оконными стеклами.
– Вы не можете быть призраком. – Алиса старалась быть рассудительной. – Призраки бесплотны, а вы…
– А я – что? А, ну да… – я недоверчиво осмотрел свое тело (прежде мне было не до того) и с удовольствием убедился, что оно весьма похоже на настоящее. Впрочем, осмотр был пустой формальностью: разительная перемена моих ощущений являлась наилучшим доказательством вернувшейся телесности.
– Как вы все-таки попали на виллу? И зачем?
– Понятия не имею, – честно сказал я. – Сколько себя помню, я всегда сидел в красном кресле в холле…
– Никто там не сидел, – нерешительно возразила Лиза. – Во всяком случае, с тех пор как я приехала, я ни разу не видела, чтобы кто-то…
– Перестань, детка, – вмешалась Алиса. – И вы все тоже перестаньте молоть ерунду. Девочки, вспомните, о чем мы сегодня говорили! Почему невозможно заставить себя сесть в это проклятое кресло и все такое… И чем мы занимались, когда…
Я вдруг понял, чем именно они тут занимались, зачем им понадобилось среди ночи забираться под самую крышу, в башенку – единственное по-настоящему необитаемое помещение в доме. И почему они сидели при свече, и что за доска, наспех исчерченная буквами, лежит на полу…
– Спорю на что угодно: вы затеяли спиритический сеанс! Поздравляю вас с его успешным завершением, дорогие мои медиумы. Очевидно, я и есть ваша законная добыча.
– Но мы даже не успели начать. Мы только взялись за руки…
Все четыре окна захлопнулись с душераздирающим треском – оставалось удивляться, что стекла уцелели. Ночной ветер с торопливой настойчивостью слепого ощупал наши лица и свернулся клубком у меня в ногах. Он выжидал.
– О господи! – несчастным голосом сказала Лиза. – Честно говоря, я думала, что будет весело…
– А тебе что, скучно? – с характерным нервным смешком спросила Юстасия.
– Обхохочешься…
Я подумал, что надо бы немного разрядить обстановку. По всему выходило, что мое появление совершенно некстати, за кого бы меня ни принимали. Если подружки решат, будто я – просто посторонний мужчина… о’кей, тогда смотри длинный список закономерных рабочих гипотез: от маньяка-убийцы до тривиального квартирного воришки, и выбирай, какой пункт тебе по душе, бедняга! Порядочные люди крайне редко приходят в гости к прекрасным незнакомкам в четыре часа утра.
Если же дамы все-таки великодушно примут на веру теорию о моей, так сказать, мистической сущности… Люди, как правило, боятся призраков, даже взбалмошные барышни, коротающие досуг за спиритическими сеансами. Если разобраться, начинающие адепты столоверчения боятся призраков куда больше, чем среднеарифметический рядовой гражданин, порожденный химерами статистических выкладок. Смутная вера у них уже есть, а опыт, законный отец невозмутимости, еще отсутствует.
Я улыбнулся женщинам, стараясь вложить в эту улыбку все неизрасходованные запасы дружелюбия и нежности – единственное, что я мог противопоставить их настороженной взвинченности. Потом медленно подошел к одному из окон – тому, что выходило на юг, где линия горизонта взрывалась белыми брызгами далеких Альп, заснеженные вершины которых ежевечерне поливают прозрачным сиропом лунного света, и открыл его, неторопливо и осторожно: грохот и звон, которые, судя по всему, весьма по вкусу ветру, не способствуют созданию теплой доверительной атмосферы.
– Не надо открывать окно. Такой сквозняк…
– Это был не сквозняк, а ветер, – мягко возразил я. – он начнет дуть, когда захочет, окна тут ни при чем… Сегодня волшебная ночь, правда?
– Правда, – эхом повторила Алиса. Немного помолчала и спросила, испытующе заглядывая в глаза: – А ты действительно призрак?
– Ага, – подтвердил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и обыденно. – И вы сами это знаете. По крайней мере, чувствуете, что так оно и есть. А чему и доверять, если не собственным ощущениям – разве нет? В каждом из нас живет маленький мудрец, который всегда знает, что к чему, но ему почти никогда не дают высказаться… Так что все правда. По крайней мере, еще полчаса назад я действительно был призраком. Сидел в красном кресле в холле, дремал, а иногда просыпался и наблюдал за жильцами. В последнее время – за вами. Не сердитесь: не так уж много развлечений у призраков… Разумеется, я не знаю, чем вы занимались, когда отправлялись в свои комнаты, или уходили на прогулку. Только пока вы сидели в столовой, на веранде или проходили через холл… Замечу, что ваша беседа о Сэлинджере произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление. Прежде я как-то не задумывался о том, куда пропал без вести первый Холден Колфилд…
– Подождите, – остановила меня Юстасия. – Вы читали Сэлинджера? Призраки читают книги? Вот это новость!
– Все не так просто. Большую часть времени я дремал, сидя в этом самом кресле, и мне снились сны. Разные сны. В некоторых снах я был настоящим живым человеком и жил довольно обычной жизнью: ел, гулял, зарабатывал деньги, веселился с друзьями, влюблялся, ходил в кино… И разумеется, читал книги. Очень много книг. Мне, знаете ли, снилось, что я – заядлый читатель… Если честно, я не уверен, что это были просто сны. Возможно – воспоминания. Как бы то ни было, моя память хранит информацию о том, что я читал Сэлинджера. А откуда взялись эти воспоминания, тут уж мне не разобраться… – Я с наслаждением вдохнул ароматный ночной воздух и улыбнулся: – Вы представить себе не можете, какое это удовольствие: быть живым человеком! Столько интересных ощущений… Взять хотя бы этот запах – господи, я уже забыл, для каких изощренных наслаждений создан человеческий нос!
– Что ж, тебе, в отличие от нас, есть, с чем сравнивать, – примирительно сказала Алиса. Мне с самого начала показалось, что уж кто-кто, а она относится к моим словам с полным доверием.
«Она старше всех и дольше всех жила в ожидании чуда, – подумал я. – Когда тебе пятьдесят, а никаких чудес в твоей жизни еще не было и вроде бы не предвидится, ожидание становится требовательным и неистовым, и разум готов в любую минуту уйти, обиженно хлопнув дверью… Так что она заранее была согласна поверить во что угодно, в том числе и в призрака, явившегося в разгар спиритического сеанса, – почему нет? Что ж, иногда доверчивость может оказаться мудростью – если очень повезет…»
– Что это? – вдруг спросила Лиза. Она сделала шаг в сторону окна и остановилась, не решаясь приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки. – Там кто-то поет?
– Где? – переполошилась Алиса. Юстасия замерла, прислушиваясь.
Я тоже напряг слух: до сих пор я был так увлечен разговором, что на другие вещи моего внимания попросту не хватало. Где-то очень далеко – на другом берегу озера Шёнзее, или в лесу, за полями для гольфа, или на небе – звучали негромкие высокие, но не женские и не детские, скорее уж бесполые, голоса. Они выводили какую-то очень простую, но чарующую и смутно знакомую мелодию – я не мог толком разобрать ее рисунок, слишком уж издалека она доносилась.
– Где-то я слышала эту песню. Но… Нет, не помню!
– Некоторые вещи кажутся знакомыми – не потому, что действительно встречались нам прежде, а потому, что… не знаю, как сформулировать… Наверное, они просто совпадают с ритмом, в котором стучит твое сердце, – сиплым, прерывающимся голосом сказала Юстасия. А потом заплакала – тихо и с каким-то странным наслаждением, не прогоняя с губ улыбку. Так плачут только очень счастливые люди – счастливые настолько, что традиционные способы изъявления чувств им уже не подходят.
– Так должны петь ангелы. – Алиса тоненько хихикнула, очевидно собственные слова показались ей слишком нелепыми, чтобы оставаться серьезной. – Маленькие белые пупсики с золотыми крылышками на верхушке рождественской елки…
И тогда снова подул ветер, но на сей раз он не стал бить стекла и грохотать оконными рамами. Он был нежен и предупредителен: убрал в сторону упавшую на глаза серебристую прядь Алисы, высушил мокрые ресницы Юстасии, ласково обернул яркий шарфик вокруг шеи Лизы. А потом добрался до меня и – я мог поклясться чем угодно! – затаился в моем рукаве до поры до времени…







