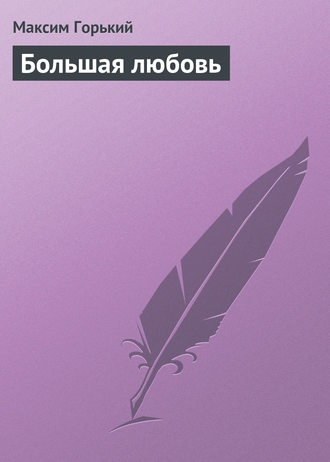
Максим Горький
Большая любовь
Дочь смотрит вверх, вокруг и, улыбаясь, говорит:
– Мам, ты тоже как букашка, ма-аленькая, вот такая – знаешь?
И показывает матери верхний сустав своего мизинца, выпачканного землёй и смолою.
– У дида моего было до двадцати пар волiв, – гудит солдат, покачивая головою, чумаковал он, и отец мой, и оба дядья тоже; отец, когда был ще маленький, ходил за рыбою аж до моря, у самый Крым, сулу возили, чабак и тарань. Сто три года было диду, когда помер он. Да. А перед волей – разорил его помещик, чисто разорил…
Ванюшка, лёжа на коленях солдата, усердно старается закрутить вверх его жёсткие чёрные усы и мешает ему говорить.
– Тоскуете о своей земле? – вздыхая, спрашивает Марья.
– Эх, ненько, ненько! – отвечает солдат, осторожно отводя руку мальчика от усов. – Та як же не тоскувати?
– Не говори! – просит Ванюшка.
И всех поочерёдно измеряет, щупает из коляски странный взгляд немого ребёнка. Голова Лидочки острая, вытянутое личико старообразно, и на нём беспокойно катаются круглые чёрные глаза. Но если на коляску сядет бабочка, муха или какая-нибудь букашка – тёмные зрачки сбегаются к переносью, замрут в остром взгляде, тонкая, сухая ручка осторожно вытягивается к живому существу и если успеет схватить его, то сосредоточенно и медленно обрывает ему ножки, крылья, а когда живое улетит, глаза девочки долго и тоскливо следят за ним.
– Чёртова дура! – кричит мальчик, высовывая язык и грозя кулаком.
– Ай, Ванюша, – останавливает его Марья, – разве можно ругаться!
– Дедушка же ругается…
– Лидочка больная ведь, она убогонькая…
– Живодёрка! – бунтует Ваня.
А Люба обиженно просит:
– Мам, не вели ей ловить мух!.. И никого не вели…
Варвара Дмитриевна, успокаивая взволнованных детей, рассказывает им что-нибудь, они оба прижимаются к ней, полудремотно слушают, глядя в её доброе, красивое лицо, и неуловимые словами, тонкие, как золотые паутинки, мудрые думы опутывают их лёгкой сетью.
Капендюхин и Марья в такие минуты незаметно отходят в сторону, за деревья, идут они туда не торопясь, будто нехотя, точно повинуясь чьему-то приказанию, возвращаются, не глядя друг на друга, не то смущённые, не то поссорившиеся.
Но однажды Марья вышла из леса быстро, лицо её было облито слезами, она отирала их со щёк ладонью и, улыбаясь виноватой улыбкой, подошла к Варваре Дмитриевне, опустилась на землю около неё и, поцеловав её в плечо, громко всхлипнула или засмеялась.
– Ну, побегайте ещё немножко, – торопливо сказала казначейша детям, – а потом домой! Живо!
– Я буду ласточка! – вскрикнула Люба, бросаясь бежать.
– А я – ворон! – объявил Ванюшка, подумав, сел на корточки и, прыгая вслед за подругой, как лягушка, начал басом каркать, а потом поднялся и, тяжело, широко разводя руками, плавно побежал в поле.
– Что, Маша? – ласково спросила казначейша, гладя женщину по голове.
– Милая, – задыхаясь и вся покраснев, начала шептать нянька, – милая вы моя барыня, согрешили мы! Не думала, не гадала, так – сразу, говорили, говорили, всё о хорошем, да как-то вдруг и обнялись, да крепко-крепко, – ах, мать пресвятая богородица! Как же теперь? Посоветуйте вы мне, поучите вы нас, – что делать-то будем? Боюсь… уж теперь, как переступили, сама я не своя буду и уж не знаю ничего…
Шептала, – а в голосе её и на лице горела пьяная радость, и глаза блестели великим счастьем.
– Дай вам бог добра, – тихо и ласково сказала барыня, – он, кажется, хороший человек…
– Ай, Варвара Митревна, какой славный! Так хорошо на смешном языке говорит – нянька моя! – а я его на три года моложе! «Спасибо, говорит, за ласку вашу», – это он-то мне! И всё на вы, ей-богу! Нифонт! – радостно и громко закричала она, – идите сюда! Скорее…
А он, наклоня голову, уже стоял сзади них, отковыривая пальцем кору сосны, и на зов Марьи ответил смущённо и виновато:
– Тут, пани Варвара, дело божие; вона, Марья, така гарна людина и стала як сестра рiдная мини! И говорим вместе, и молчим вместе. Ту божью мне ласку, той подарок её я ж принимаю честным сердцем, – вы не беспокойтесь, пани, и вы, ненько! Мы – поженимось, – мне ще год семь мисяцев и одиннадцать днiй служить, а потом я уже и свободен.
– Голубушка, – перебила Марья, – не могу даже сказать, как жалею его: говорит он про степи, про волов этих – а я реву! Один, сторона чужая, говор другой даже… Думаю господи…
Варвара Дмитриевна смотрела на них, весело улыбаясь; ей хотелось сказать им какие-то хорошие, на всю жизнь памятные слова, сказать от полного сердца, но в нём тихонько билась маленькая грусть, и было в нём немножко зависти чужому счастью.
Подбежали дети, красные, встрёпанные, задыхаясь, свалились на землю, причём Ванюшка больно стукнулся коленом о корень и густо выругался:
– Лешай!
Возвращались домой по нагретому солнцем полю, притаптывая увядшую от дневной жары короткую траву дёрна, срывая по дороге бессмертники, белые и розовато-бледные, золотую куриную слепоту и лиловые повилики.
Шли молча, задумчиво и не спеша; иногда солдат предлагал детям:
– А ну, садитесь мне на плечи!
Люба отказывалась, а Ванюша, широко улыбаясь, влезал на шею Капендюхина и, сидя там, покрикивал своим басом:
– Н-но! Шагай!
Из-за холмов поднимались разноцветные крыши города, осенённые тёмной зеленью деревьев, на стёклах слуховых окон блестело солнце, в густом воздухе однотонно плыл небогатый, тихонький шумок уездной жизни.
– Подумайте про нас, милая барыня! – тихо шепчет Марья. – Научите вы нас…
Улыбаясь, барыня так же тихо отвечает:
– Не бойтесь ничего, Маша! Надо любить так, чтобы всем, кто на вас взглянет, хорошо и радостно было и захотели бы люди сами крепко любить! Я не знаю, что сказать вам, я такая, какая-то… бедная…
А Марья жалостно говорит, глядя в лицо барыни добрыми и влажными, точно у лошади, глазами.
– Знаю я, ох знаю житьё ваше сиротское, сердечная вы моя барынюшка!
Насытясь солнечным воздухом, напоённая пьяным ароматом леса, усталая от беготни и добрых впечатлений дня – девочка идёт рядом с матерью, чутко слушает её тихие слова и запоминает их, а вечером, лёжа в постели, спрашивает:
– Мам, ты бедная?
– Да.
– И я бедная?
– И ты.
– Это хорошо, если бедные?
– Спи, дружок…
Помолчав, Люба заявляет:
– Я сегодня не умею спать! Почему у тебя нет кольца? – дай руку! – видишь? – нет! А у папы – есть! И часы есть. Он – богатый?
– Не мешай мне спать, Любашка, – шутливо строгим голосом говорит женщина, кутаясь простынёй.
В комнате жарко, ночная бабочка мягко бьётся в стёкла окна, трещит сверчок, и гудят комары, путаясь в кисейном пологе кровати.
– Вовсе ты не хочешь спать потому что… – говорит дочь, влезая на грудь матери, сжимает ей щёки маленькими ладошками и целует в губы.
– Мм-а, вот как поцеловала Любашка мамашку-букашку! – и подпрыгивает на груди, тискает мать и щекочет её, когда та пытается сказать что-нибудь – целует её. Обе смеются, и незаметно девочка засыпает с непогасшей улыбкой на лице.
Идут один за другим уездные дни – не торопясь идут, точно старушки в монастырь ко всенощной. Пёстрое лето незаметно сменяется золотисто-рыжей осенью, зелёный сосновый бор стал скучно тёмен, в поле носится сырой ветер, омывают землю холодные дожди, и вот пришла пышная, белая зима.
В темноте зимних ночей над городом буйно мечется вьюга; шаркая по стёклам белыми крыльями, летают тучи снега, подобные огромным птицам, и разбиваются в мелкую пыль о стены дома, крыши и деревья. Всю ночь слышен мягкий шорох, гудит в трубах, и сторожевой звон церковного колокола исчезает в шуме метели, точно капля масла в кипятке.
Вопросы дочери становятся сложнее, и мать, отклоняя трудные ответы, учит шестилетнюю дочь грамоте, а чтобы ей не скучно было одной – с нею вместе учится Ванюшка Хряпов. Дело идёт хорошо, Люба быстро постигает премудрость чтения и письма, пачкает чернилами и пальцы и нос, Ванюшка хмурится, басит ещё гуще, чем летом, пишет вместо буквы «р» везде твёрдый знак, верёвка у него выходит въевка, верхом – въхом.
Когда учительница объясняет, что это не так, он солидно спорит:
– А как же? «Ер» – в нём сразу две буквы, я и пишу ер, чтобы скорее было написано… Нету ера? А дедушка говорит – есть он? В конце слов? Мм…
Люба, торжествуя, смеётся, а её товарищ, вытаращив глаза, долго смотрит в тетрадку и наконец уверенно говорит:
– В конце тоже нельзя ер ставить, тогда всё спутается и я буду уж не Иван, а Иванер…
Мать и дочь хохочут, он смотрит на них сначала немножко обиженно, а потом сам начинает хохотать, широко раскрывая рот и взмахивая большой головою.







