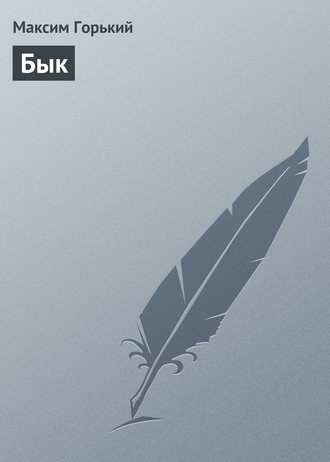
Максим Горький
Бык
«Ничего нет, потому и чисто, – подумал староста, потом добавил: – Как в больнице».
Татьяна Конева, маленькая, тощая, сидела на лавке у стола, примеряя на ногу пятилетней дочери туфлю, сшитую из войлока, и звонко рассказывала ей:
– Пришла она в город, а город огромный, и где в нём счастье живёт – нельзя понять, только видит она – живёт счастье! Всего в городе много, все люди сытые, одетые, да все в шелках-бархатах, шелка-бархаты шелестят, сапоги-башмаки поскрипывают…
Староста, усмехаясь, кашлянул. Сын Коневой, сидя на полу, щёлкал дверцей птичьей клетки; приподняв гладко остриженную голову, нахмурил белое, глазастое лицо и недружелюбно крикнул:
– Кого надо? Мам, в окошко заглядывает какой-то.
– Не узнал разве? Это Яков Тимофеич, староста наш, – сказала мать. Лицо у неё тоже было глазастое и всё сплошь иссечено мелкими морщинами, как у старухи.
– Выправился сын-от? – спросил Ковалёв.
– Да вот встал, играет.
– Я не играю, а клетку чиню, – солидно поправил сын.
– Учиться надо бы ему, да учитель-то захворал, – сказала мать, прижав к себе девочку.
– Теперь, с двоими, тебе легче будет, – объяснил ей староста таким тоном, как будто это он устроил так, что двое детей Татьяны умерли один за другим.
– Да, да, – согласилась женщина, вздохнув. – Родим да хороним…
– Дело простое, – усмехнулся Ковалёв.
Черноволосая девочка смотрела на него из-под локтя матери, шевеля губами.
– Девчурка-то тоже – ничего, выздоровела?
– Да она и не хворала.
– Вот умница, – похвалил Ковалёв, а мальчик, взмахнув головою, строго спросил его:
– А хворают дураки только?
– Гляди-ко ты, какой бойкий, – удивлённо воскликнул староста.
– Он у меня дерзкий, – виновато, но ласково сказала мать. – Он со всеми так.
– Непокорный, значит, – объяснил Ковалёв. – Это у него от учителя. Учитель тоже – спорщик.
Стоять согнувшись было неудобно, легче бы встать на колени, но нельзя же старосте на коленки встать у окна нищей бабы, смешно одетой в юбку из мешковины, в зеленоватый, глухой жилет вместо кофты, к жилету пристроены полосатые рукава; горожане из такой полосатой материи штаны шьют. Ковалёв ещё раз осмотрел избу: на полке, около печи, немножко посуды, стол выскоблен, постель прибрана, и всё – как будто накануне праздника. И дети – чистые.
– Чисто живёшь, – похвалил он.
– Исхитряюсь кое-как, – сказала женщина. – Вот войлок дали на станции, обувку ребятам сделала, а то – простужаются босые, – холодно ещё.
– Ну, живи, живи, – разрешил староста и, выпрямив ноющую спину, пошёл прочь, чувствуя лёгкую обиду и думая:
«Не жалуется. Ничего не попросила…»
Неприятно было вспомнить, что у него дома три бабы: мать, ещё бодрая старуха, жена, суетливая и задорная, сестра жены, старая дева, плаксивая и злая, а в доме грязновато, шумно, дети плохо прибраны, старший – отчаянный баловник, драчун, на него постоянно жалуются отцы и матери товарищей, избитых им.
Когда он шёл мимо избы Роговой, Степанида выскочила со двора с решетом в руках, схватила его за рукав и озабоченно, сдерживая голос, сказала:
– Тимофеич, слушай-ко: учитель-то у меня нехорош стал…
– А был хорош? – шутливо спросил Ковалёв.
– Ты погоди, послушай, – говорила она, оглядывая улицу и толкая старосту во двор свой. – Сказала я ему, чтоб он квашню на лавку поставил, а он взял квашню-то, поднял да и сел на пол, а квашня – набок, я едва тесто удержала. Гляжу, а у него изо рта кровь ручьём, ты подумай! Это уж к смерти ему. Ты, батюшка, сними его от меня, в больницу надо отвезти, давай лошадь, моя – на пахоте! Да я и не обязана возить его.
– А кто обязан? Я, что ли? – ласково заговорил Ковалёв. – И где я лошадь возьму, у кого? Никто не даст, все пашут. Тридцать вёрст туда-обратно. Это значит – двое суток время потерять.
– А мне как быть?
– Отлежится. Позови Марью Малинину, она заговорит кровь-то, – успокоительно говорил староста, почёсывая спину о перила крыльца. – Ты не беспокойся. Уж очень ты любишь беспокоиться, – укоризненно сказал Ковалёв.
– А умрёт? – спросила Рогова, выкатив красивые глаза свои.
– Эка важность! Имущество тебе останется.
– Ну, какое! Три рубахи, трое штанов, всё ношеное, пиджачишко да пальтишко. Часы будто серебряные.
– Вот видишь – часы. Родные-то есть у него?
– Не знаю. Письма писал кому-то. Гольё, наверно, родные-то. А он мне девять рублей должен.
– Родных у него нет, – вспомнил староста. – Он барыней Левашовой воспитан, сирота он. Родных нет, а есть жалованье. Понимаешь? Значит, надо следить, когда в волость повестка на жалованье придёт. Тут тебе и девять рублей и поминки и… вообще. Ты, главное, живи смирно. Ну, будь здорова!
Он вышел на улицу. Рогова шла за ним, считая что-то на пальцах. Ковалёв обернулся к ней и сказал:
– Сейчас у Коневой был, – чисто живёт, шельма!
Рогова, стоя у ворот, смотрела вслед ему, нахмурясь, озабоченно надув толстые губы. Из сеней вышел большой рыжий кот; подняв хвост трубой, он потёрся об ноги хозяйки, мяукнул.
– Чего тебе, балованый? – спросила Рогова, наклонясь, подняла его с земли и, поглаживая башку кота, забормотала:
– Запел, замурлыкал? Ах ты, зверь…
Шумели ребятишки, играя в бабки, бормотал и посвистывал скворец, невидимый жаворонок звенел в голубом воздухе, напоенном тёплым светом весеннего солнца.
Утром, когда пастух собирал стадо, быка не оказалось на улице. Бабы тотчас зашумели, окружили Антона, спрашивая тревожно и сердито – куда девал быка? Утро было хмурое, сеялся мелкий дождь. Старик подождал, когда бабы немножко обмокли, охладели, и сказал:
– Бык – с хозяином.
– А кто ему хозяин?
– Кто кормит, тот и хозяин. Быка вчера поутру прямо с выгона продавать повели.
Бабы закричали: кто, куда, кому, за сколько?
– Повёл Данило Кашин, а больше я ничего не знаю, и не задерживайте стада, – ответил киластый[4] старик. Бабы побежали к старосте. Он, собираясь в поле, подтвердил, что Кашин и Слободской отправились продавать быка.
– Кормить его никому не охота, а мужиков я спрашивал – они решили продать.
– Самовольничаешь ты с Кашиным да Слободским, – закричали бабы, но когда староста ласково спросил их: «Да вы чего кричите? Чем недовольны?» – бабы не могли объяснить причину своего раздражения, пошли по домам, стали вспоминать, сколько мужьями заработано у генерала, заспорили и быстро перессорились. Примирила их Степанида Рогова, выбежав на улицу и объявив, что ночью помер учитель.
В скучной жизни и смерть – забава. В избу Роговой начали забегать бабы, девицы, вползали старики и старухи с палочками, явились ребятишки. Рогова, не пуская никого в комнату учителя, сердито уговаривала:
– Да чего смотреть-то? Чего? Какой интерес? Он и мёртвый не лучше мужика, учитель-то. Идите-ко, идите с богом.
Марья Малинина осведомилась:
– Кто же его, сироту, обмоет, оденет, ручки ему на грудях сложит, гробик закажет, попа позовёт?
– А я почему знаю? – раздражённо рычала Степанида. – Что он мне – сын али муж? Он и так девять рублей остался должен мне. Вот староста явится, он скажет, это его дело…
Пришла Матрёна Локтева, женщина большая, толстая. Сердце у неё было больное, она страдала одышкой, и распухшее лицо её казалось туго налитым синеватой кровью.
– Скончался, значит? – спросила она. – А я вот все маюсь – задыхаюсь, а не могу умереть. – Затем, сочувственно качая головой, сказала:
– Большие расходы тебе, Степанида Власьевна. Поп дешевле пятишницы, наверно, не возьмёт, да лошадь надо за ним туда, сюда.
– С ума ты сошла, Матрёна! – взревела Рогова, хлопнув ладонями по широким своим бёдрам. – Какие расходы? При чём тут я? Он мне девять…
Но, не слушая Рогову, слепо глядя в лицо её заплывшими глазами, Локтева говорила:
– А попа можно и не звать. Вот Мареевы да Конева без попа детей хоронили…
– Конева – еретица, она в бога не верит, и мужичонка её в церковь не ходил, они – еретики, – строго сказала Малинина, но и это не остановило течение мысли Локтевой; всё так же медленно она продолжала:
– И зачем ему поп? Он тоже, как дитя, был, глупенький, невинный ни в чём, да и смирнее ребятишек наших. Взглянуть-то на него не допускаешь? Ну, так я пойду…
Тяжело поднялась на ноги и выплыла из избы, а Рогова проводила её воркотнёй:
– Дура толстая, залилась жиром, как свинья.
На смену Локтевой явился староста, молча прошёл за переборку, в комнату учителя, прислонился к стене, поглаживая её спиною. Учитель вытянулся на постели, покрытый до подбородка пёстрым, из ситцевых лоскутков, рваным одеялом; из дыр одеяла торчали клочья ваты, грязноватой, как весенний снег; из-под одеяла высунулись голые ступни серых ног, пальцы их испуганно растопырены, свёрнутая набок голова учителя лежала на подушке, испачканной пятнами потемневшей крови, на полу тоже поблескивало пятно покраснее. Часть длинных волос учителя покрывала его щёку и острый костяной нос, а одна прядь возвышалась над головой, точно рог. Был виден правый глаз; полуоткрытый, он смотрел в подушку и точно прятался.
– Нехорошая какая видимость, – сказал староста, выходя из комнаты. – Словно он не сам помер, а убитый. – Он сел к столу и начал свёртывать папироску, вздохнул и сморщил мягкое благообразное лицо.
– Ах ты, господи… Стражника нет, заарестовали, не выпускают…
– А ты бы не доносил на него, – проворчала Рогова.
Староста, глядя на неё, как в пустое место, продолжал:
– Как вот хоронить чужого-то человека? Может, особый закон какой-нибудь имеется для этого? Н-да, Малинина, ты займись тут; это – твоё дело, больные, мёртвые. За работу из жалованья получишь.
– Не забудь, он мне должен остался, – напомнила Рогова.
– Забуду ли, ты у меня – первая на памяти, – сказал Ковалёв, закуривая. – Я только про тебя и думаю: как у меня Степанида живёт?
– Старенек ты для шуточек, – сказала Рогова.
– Помолчи, чудовища, – предложил Ковалёв и снова обратился к Малининой: – Всё это дело, Марья, я тебе строго поручаю, а то Рогова насчитает расхода рублей на сто. Позови Коневу, она тебе поможет.
– Одна управлюсь. Не хочу я видеть эту нищую, – твёрдо сказала Малинина.
– Эх, забыл я, что ты воюешь с ней. Напрасно. Она живёт… вроде как будто и нет её в деревне. Она вам – пример.
– Ой, умён ты, Яков! – вскипела Рогова. – Нищих в пример ставишь.
Ковалёв встал, поглядел на папиросу.
– Ну, мне – пахать! Так, значит. Налаживай, Марья.
И обратился к хозяйке, как всегда, мягко:
– А ты гляди, ежели что окажется неправильно, так я с тебя взыщу!
Тут Рогова топнула ногой так, что где-то задребезжала посуда, а женщина, показывая кукиш в затылок старосте, заревела во всю силу голоса:
– Вот чего ты взыщешь с меня, на-ко вот! Жалуется, стражника заарестовали, а сам донёс на него. Ябедник! Паточная рожа, святая задница, прости меня господи!..
– Степанидушка, – успокоительно заговорила Малинина, – надо бы водицы согреть, обмыть усопшего надо, а то в день страшного суда, второго пришествия Христова, немытый он…
– Отстань! – густо сказала Рогова. – Вот – печь. Грей. Я сегодня печь топить не буду. И дров не дам. Как хотите…
Малинина, сердито поджав губы, вышла из комнаты, а Рогова села к столу, выдвинула ящик, достала ученическую тетрадку, карандаш, посмотрела в потолок и, помусолив карандаш, начала писать что-то. В избе стало тихо, как в погребе. Потом с печи мягко спрыгнул толстый, рыжий кот, бесшумно касаясь лапами пола, подошёл к хозяйке, взобрался на колени ей, и хвост его встал над столом, как свеча.
– Пошёл прочь, – проворчала женщина, но не столкнула кота, а он, замурлыкав, начал гладить мордой её руку.
Вскоре явился плотник Баландин, босой, без шапки, заправив подол рубахи за пояс синих штанов, пришёл, держа в руке аршин, взмахнул им и весело поздоровался:
– Здорово, хозяйка, добрая душа! Вот и я – мерочку снять.
Рогова подняла голову и уверенно сказала:
– Одиннадцать рублей сорок копеек оказалось за ним…
– Однако капитал! – откликнулся плотник. – А не найдётся у тебя стаканчика веселухи?
– Есть.
Рогова сняла кота с колен, посадила на лавку и пошла в угол, к маленькому шкафу на стене.
…Поздно вечером со станции пришли Кашин и Слободской, оба немножко хмельные. Слободской поставил на стол бутылку водки, положил кольцо колбасы и спросил Ковалёва:
– Любаша где? У жены моей, ага! Мать, сестра – спать пошли? Вот и хорошо. Решим дело без бабья, тихо, мирно.
– Продали? – нетерпеливо спросил староста.
– Обязательно, – сказал Кашин. – Эх, самоварчик бы с дороги…
– Сейчас налажу, – охотно согласился Ковалёв, выходя в сени, а Кашин, вполголоса, сказал Слободскому:
– Ты помалкивай, я с ним пошучу, на цифре поиграю. – Слободской молча кивнул головой, ударами ладони в донце бутылки выбивал из неё пробку.







