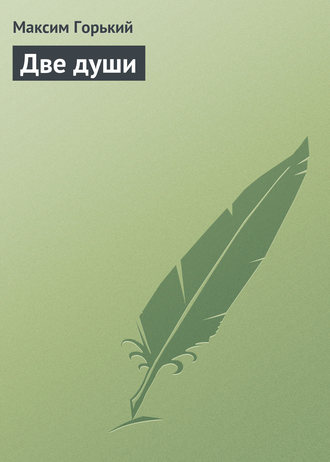
Максим Горький
Две души
Каждый раз, когда Западная Европа, утомленная непрерывным строительством новых форм жизни, переживает годы усталости, – она черпает реакционные идеи и настроения от Востока. «С Востока свет!»
В утомленной крови победоносно развивается отрава, воспринятая ею от столкновения с Азией, от азиатской мысли, запуганной, бессильной, унижающей человека, той мысли, которая создана Востоком, в печальных условиях его бытия поработила его и ныне отдает в плен и власть европейского капитала.
* * *
Явные и постоянные черты всякой реакции всегда выражаются в том, что победители начинают бояться разума, которым они пользовались как оружием и силу которого хорошо знают; побежденные же сомневаются в силе разума, мировое творческое значение которого не вполне ясно им, ибо побежденным является народ, а его, как известно, не очень охотно знакомят с могуществом разума и науки. Страх перед разумом вызывает у победителей стремление подорвать его силы: они начинают говорить об ограниченности разума, о том, что исследование не способно разрешить загадки бытия, ставят на место изучения умозрение, на место исследования – созерцание. Можно думать, что все это проповедуется сознательно и бессознательно – с намерением еще более укрепить сомнение побежденных в могуществе разума.
История оправдывает и утверждает этот взгляд. Возьмем европейскую реакцию начала XIX века, когда Европа, напуганная великою революцией, была подавлена деспотизмом Наполеона, а вслед затем подпала еще более тяжкому гнету «Священного Союза»[11], который был основан против «вольномыслия, атеизма и ложной учености». Тогда в сфере мысли «испугались всесильного господства начал разума, которое провозгласила материалистическая философия XVIII века; в сфере практической жизни и политики – самодержавия народа, которое провозгласил Руссо.
На почве этого страха и разочарования буржуазии в способности взять всю „широту власти“ в свои руки буржуазия почувствовала отвращение к действительности, обманувшей ее надежды, и ее литература отдалась во власть романтизма. Основой романтизма является болезненно развитое ощущение своего „я“, которое романтики ставят выше всех явлений мира, выше всего мира, в позицию божественного законодателя. Личность, по убеждению романтика, совершенно свободна от связи с миром, от влияния на нее действительности. Весьма возможно, что в глубине такого убеждения лежал недавний пример Наполеона, который в несколько лет вырос из поручика в императора, поработил всю Европу, создавал из рядовых солдат маршалов и королей.
Наиболее резко и точно выражено отношение романтика к себе и миру Ф. М. Достоевским в „Записках из подполья“, сочинении, где соединены все основные идеи и мотивы его творчества.
„Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз: своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, – вот все это и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту“. „Стою за свой каприз и за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится“. „Да я за то, чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам, Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить“.
Эта проповедь безудержного, ничем не ограниченного своеволия скрывает в глубине своей отчаяние личности, неспособной приобщиться миру, оторванной от него, это анархизм отчаяния, всегда свойственный настроению романтиков. Убеждение в праве личности на неограниченное своеволие открывает пред романтиком в одну сторону путь к анархизму, безначалию, в другую – необходимо приводит его к идеализации единовластия монархизма.
Среди равных себе романтики не могут признать главу, и Новалис, один из немецких романтиков, прямо говорит: „Король – это человек, исполняющий на земле роль небесного Провидения“.
Вот суждения романтиков: Шатобриан, французский писатель, говорит: „Зачем крестьянину знать химию? В народе гораздо более ума, чем в философах, – народ не отрицает чудес. Что бы ни говорили, а прекрасно всегда находиться среди чудес“.
Это был вполне сознательный реакционер, посвятивший свои силы борьбе против философии разума, созданной писателями XVIII века. Его лозунг: „необходимо вернуться к религиозным идеям“ недавно провозглашен известной группой русской интеллигенции. В одном из писем к другу своему, тоже реакционеру, Де-Местру[12], он писал: „Все скрыто, все неведомо во вселенной. Всевечная судьба поставила Рок и смерть на двух концах нашего пути и с высоты трона своего бросила нашу жизнь в пустоту времени, чтоб она катилась без основания и смысла“.
„Жизнь – болезнь духа! – говорит Новалис[13]. – Да будет сновидение жизнью!“ Другой писатель, Тик[14], вторит ему: „Сновидения являются, быть может, нашей высшей философией“. Эти мысли тоже неоднократно повторены русской литературой последних годов.
Романтики начала XIX века предпочитали практической деятельности свободную игру фантазии, созерцание – исследованию, религию – науке, веру – разуму.
Их современник, великий поэт и мыслитель Гете, так определил романтизм:
„Романтизмом я называю все больное. Большинство новейших произведений романтично, но не потому, что они новы, а вследствие присущей им слабости, чахлости и болезненности“.
А историк литературы Иоганн Шерр[15] сказал, что „реакция и романтизм вполне равнозначащие понятия“.







