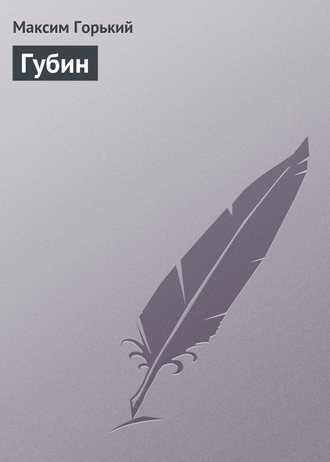
Максим Горький
Губин
– Отец мой был человек самоумный, характерный, и за это его терпеть не могли в городе. Лет с двадцать он добивался выбора в головы градские, и поил-кормил людей, и уговаривал – не одолел упрямства-глупости, так и скончался, не достигнув назначенного себе. Боялись его: он бы тут всё разворотил, до корней вплоть! Он знал, что закон надобно вбивать в самое нутро человеку, вроде как бы гвоздь…
Под полом пищат мыши, за Окою стонет сова, и всё гуще слышен смолистый запах гари: леса горят. В темном небе порою вспыхивают красные пятна, скрадывая неясный блеск звезд.
– Помер в одночасье. А я, о ту пору, был семнадцати годов, училище городское в Рязани только что окончил. И, конечно, всё, что отец против себя в людях накопил, на меня свалилось: весь в отца, говорят! А я – один! Мать, в уме помешавшись, тоже померла, года за два до отца. Дядя, отставной унтер-офицер, пьяница непробудная и герой: под Плевной сражался, там ему глаз вышибли и руку повредили левую так, что отсохла. Кресты у него, медали, и он надо мной издевается – грамотей, дескать! Ученый! А что такое – «тиверсия»? Я говорю: такого слова нету, а он меня – за волосы… Совсем нелепое лицо! И все меня грамотой стыдят, по дикости своей… Стал я в городе на манер дурачка для всех и вроде блаженного…
Воспоминания приподняли его, он сел на пороге двери – черным пятном в синий квадрат, – закурил хрипучую трубку и, освещая свой длинный, смешной нос, продолжал быстро бегущими словами:
– Женился двадцати годов, на сиротке – больная попала и померла, не разродясь, – опять один я! Беа поддержки, без совета, без дружков… так-то! Живу и вижу: всё не так, как надобно…
– Что – не так?
– Всё! Весь оборот жизни… глупость, дичь болотная! Даже собаки не в пору лают… Говорю: давайте, ремесленное училище откроем и для девиц что-нибудь. А они – смеются: все, говорят, ремесленники горькие пьяницы, весьма довольно их! Девицы же, дескать, без наук часто до времени родят… Затеял я спичечную фабрику – сгорела в первый год… Чего делать? Тут и настигла меня одна женщина, завертелся я около нее, как стриж вокруг колокольни, закружился и так зажил… будто не здесь! Три года не чуял себя, а когда оклемался, вижу – нищий я и всё мое – в ее руках белых! Было мне в то время двадцать восемь годов, а – нищий! Ну, – не жалею! Пожил, как редко живут… На, бери, возьми! Всё едино: я сделать не мог бы ничего с отцовым большим добром, а она – она, вон как… н-да! Может – я в ту пору и не думал так, а – это теперь, когда всё потеряно… Она говорит – ничегоде не потеряно. Ума, брат, у ней – на весь город…
– Она – кто?
– Купчиха. Бывало – распахнется и спросит: «Чего это тело стоит?» А я говорю: «Нет ему цены!» В три года – всё ушло… вроде – дым! Конечно, меня – осмеяли, заторкали… Ну, я не поддаюсь им… Знаю я тут все житейские дела, вижу – всё не так, и не молчу об этом. Молчать я не согласен… У меня – кроме души да языка – ничего нет! За то – меня не любят и считаюсь я дурачком…
– А как надобно жить, по-твоему?
Он долго молчал, посапывая трубкой, красным пятном вспыхивал во тьме его нос.
– Этого никто не знает подробно – как надо жить, – тихо и медленно выговорил он. – Я думал, думал…
Я представил себе, как он, всем чужой, осмеянный, прожил в этом городе никому не нужную жизнь – ненужное бытие угрожало и мне, сердце щемила тоска, не давая уснуть.
…Русь изобилует неудавшимися людьми, я уже не мало встречал их, и они всегда, с таинственной силой магнита, притягивали к себе мое внимание. Они казались интереснее, лучше густой массы обычных уездных людей, которые живут для работы и ради еды, отталкивая от себя всё, что может огорчить кусок хлеба, всё, что мешает вырвать его из некрепких рук ближнего. Угрюмо замкнутые, с одеревеневшим сердцем и со взглядом, всегда обращенным в прошлое, или фальшиво добродушные, нарочито болтливые и – будто бы – веселые, но холодные изнутри, серые люди, они поражали своей жестокостью, жадностью, волчьим отношением ко всему в жизни.
Было в них что-то непобедимо зимнее – казалось, что и весною и летом они живут для зимы, с ее теснотой в домах, с ее длинными ночами и холодом, который понуждает много есть.
В плотной, скучной и жуткой массе этих зимних людей неудавшийся человек очень резко бросался в глаза: он – вдумчивей, живее, у него более острое зрение, он – умел заглянуть за скучные пределы обычного и привычного, у него емкая душа, и всегда она хочет быть полной. В нем есть стремление к простору, он любит светлое и сам как будто светится…
Да, светится, но чаще всего – обманчивым светом гнилушки: присмотревшись к нему, понимаешь – с досадой и горькой печалью, – что это лентяй, хвастун, человек мелкий, слабый, ослепленный самолюбием, искаженный завистью, а расстояние между словом и делом у него еще глубже и шире, чем у зимнего человека, который, хотя и медленно, как улитка, но всё же ползет куда-то по земле, тогда как неудачник вертится на одном месте, точно бесплодная старая дева перед зеркалом…
Я слушаю Губина и вспоминаю подобных ему.
– Я всю жизнь насквозь просмотрел, – ворчит он, подремывая, опустив голову на грудь.
Как-то внезапно я уснул – на несколько минут, показалось мне. Губин разбудил меня, дергая за ногу.
– Ну, вставай, идем…
Он смотрит в лицо мое серыми глазами – что-то умное чудится мне в этом невеселом взгляде. На измятых щеках, сквозь давно не бритые волосы, светятся красные жилки, на висках у него тоже туго натянуты синие жилы, голые руки точно скручены из сыромятных ремней.
Мы идем по сонным улицам города, над нами мутно-желтое небо; еще заря не погасла, а воздух душен от запаха гари.
– Пятый день леса горят, – ворчит Губин, – не могут остановить… дурачье!
Вот мы на дворе купцов Биркиных: жилище их странно – это куча разнородных пристроек к одноэтажному с мезонином дому, в четыре окна на улицу. Пристройки подпирают его со всех сторон, даже на крышу влезли. Все они имеют вид прочный, тяжелый, но – кажется, готовы разойтись по двору, за ворота, на улицу, в сад и огород. Как будто они украдены в разное время, в разных местах и сложены кое-как за высоким забором с длинными гвоздями. Окна – маленькие, стекла в них зеленые, смотрят они на свет подозрительно и пугливо. В трех окнах на двор толстые железные решетки, а на крышах, точно сторожа, грузно сидят кадки с водою – на случай пожара.
– Что глядишь? – бормочет Губин, заглядывая в колодец. – Звериное жилье, ну да… Перестроить бы надо всё, как можно шире, просторней, а они всё пристраивают.
Шевеля губами, точно заклинания нашептывая, он, сердито прищурясь, обвел все постройки считающим взглядом и тихо сказал:
– Между прочим – дом этот мой…
– Как – твой?
– Как бывает, – сморщив лицо, точно у него зубы заболели, ответил он и тотчас начал командовать:
– Ну, я стану воду качать, а ты таскай ее на крышу, наливай кадки. Вот тебе ведра, вот лестница – действуй!
И принялся за работу, обнаруживая большую силу, а я стал, с ведрами в руках, лазить на крышу.
Кадки рассохлись, не держали воды, она стекала на двор. Губин ругался:
– Хозяева, туда же… грош берегут, а целковый беззащитен… Вдруг бы – пожар? Ду-убье…






