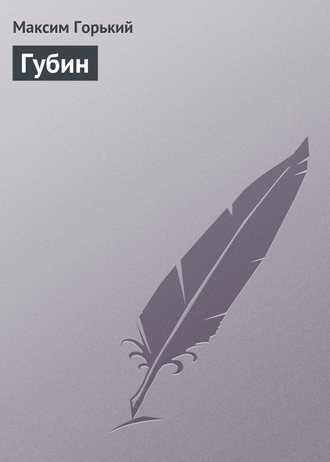
Максим Горький
Губин
– Калитку отопри! Тут… нищая, старушка хромая придет… кликни меня… меня – Надежду Ивановну, слышишь?
Из колодца донеслось:
– Кто говорит?
– Хозяйка…
– Надежда – э-эх-ма! Мне бы с ней пару словечек…
– Что он кричит? – спросила женщина, с усилием приподнимая темные, чуть намеченные брови, и хотела наклониться к срубу, но я неожиданно для себя сказал:
– Видел он, как ты ночью шла…
– Что-о?
Она выпрямилась, побагровев до плеч, быстро прижав полные руки ко грудям, широко открыв потемневшие глаза, и вдруг спутанно, торопливо зашептала, бледнея и странно умаляясь, оседая к земле, точно перекисшее тесто.
– Что он видел-то, господи? Нет… Голубчик, – придет хромая – не пускай! Скажи – не надо, не могу, нельзя – я тебе целковенький… господи!
Снизу все громче и сердитей ползли крики Губина, но я слышал только захлебывающийся шёпот женщины, видя, как ее лицо – полное и розовое – осунулось, посерело, темные губы, вздрагивая, мешают говорить, а в глазах застыл жалостный собачий страх.
Но вдруг она приподняла плечи, подобралась вся и, смигнув страх, тихо и внятно сказала:
– Ничего не надо… Пускай…
Покачнулась и пошла прочь, шагая мелко, точно ноги у нее были связаны, – шла она раздражающе тихо, покорно и точно слепая.
– Тащи! – выл Губин.
Когда я вытащил его, он – мокрый, синий от холода – стал прыгать по двору, ругаясь и размахивая руками.
– Это – как же? Я кричу, кричу…
– Сказал я Надежде, что ты видел ее.
Он подпрыгнул ко мне, злой.
– Кто тебе велел?
– Сказал, что тебе приснилось, будто она садом в баню шла…
– Что-о? Что такое?
Голоногий, тающий грязью, он смотрел на меня, хлопая глазами, его неприятное лицо стало смешно, глупо.
– Смотри – если ты мужу ее скажешь, то я так и буду говорить, что ты во сне видел всё это…
– Зачем? – растерянно воскликнул Губин, но – вдруг пришел в себя и, широко улыбаясь, тихонько спросил:
– Сколько дала?
Я стал объяснять ему, что мне жалко женщину, боюсь, что братья изувечат ее и что не следует ее выдавать, – Губин сначала не верил мне, но потом задумался и сказал:
– Неправильно всё это: лучше взять деньги за правду, чем за обман. Сбиваешь ты меня, парень… Наняли они меня колодец чистить, а я бы им в ту же цену – всё вычистил… это мне удовольствие!
Он снова разозлился, греясь, бегает вокруг сруба и бормочет:
– Как ты можешь мешаться в чужие дела? Али ты здешний?
Разыгрался сухой, жаркий день, но – небо мутное, точно пропылилось летней пылью до самых глубин, и на багровый, без лучей, шар солнца можно смотреть не мигая, как на луну.
– Я тебя ввел к делу, работой обрадовал, а ты мне…
За воротами, играя селезенкой, тяжело скачет лошадь, вот она поравнялась с домом Биркиных, и кто-то хрипло кричит:
– Лес занялся – эй!
Хлопнула рама окна, и тотчас же двор наполнился шумной, бестолковой суетой: из кухни выкатилась усатая баба, за нею – встрепанный, полуодетый Иона, из окна высунулась лысая, красная голова Петра.
– Запрягайте скорей, батюшки! – кричал он плачущим голосом.
Губин уже вывел на двор жирную рыжую лошадь, Иона выкатил легкую бричку, Надежда – с крыльца – говорила ему:
– Иди, оденься сперва…
Баба распахнула ворота – прихрамывая и ведя на поводу взмыленную лошадь, во двор вошел маленький мужичок, в красной рубахе, и веселым голосом заговорил:
– У двух местах зачалось, – от порубки и от могилы…
Все окружили его, охая и ахая, только Губин ловко и быстро запрягал лошадь, ни на кого не глядя, говоря мне сквозь зубы:
– Дождались… несчастный народ…
В воротах явилась нищая, воровато прищурила глаза и запела:
– Го-осподи Ису-усе…
– Бог подаст, бог подаст! – испуганно махая руками, крикнула Надежда, побледнев. – Тут – несчастье, лес загорелся… после приходи!
Вдруг Петр, стоявший в окне, заполняя его, покачнулся назад в глубь комнаты и исчез, а на месте его явилась женщина, презрительно говоря:
– Что – настиг господь? Обормоты, лентяи…
Ее волосы, седые на висках, были прикрыты шёлковой головкой, шёлк отливал на солнце, и голова казалась железной. На ее лице, иконописном и точно закопченном дымом, двумя пятнами блестели никогда не виданные мною синие глаза без зрачков.
– Али я вам не говорила, что просеку от могилы шире надо было вырубать, шайтаны…
Над маленьким острым носом женщины лежала глубокая морщина, и из нее к серебряным вискам расходились густые брови. Стало странно тихо, только лошадь шлепала копытом по грязи, а из окна непрерывно истекал густой, почти мужской голос, презрительно укоряя.
«Вот она – свекровь!» – подумал я.
Губин кончил запрягать и сказал Ионе тоном старшего:
– Ступай оденься, чучело…
Когда Биркины съехали со двора, а за ними, взвалившись на потную лошадь, ускакал верховой, – женщина исчезла, но пустое окно стало как будто чернее, чем было прежде. Шлепая по лужам босыми ногами, Губин затворил ворота, мельком взглянул на меня и сказал:
– Ну, начнем… чего там!
– Яков! – густо позвали из дома.
Он вытянулся, как солдат.
– Поди-ко сюда…
Губин пошел ко крыльцу, четко топая ногами. Надежда, стоявшая на верхней ступени, повернулась боком к нему, неприятно сморщив лицо, а потом поманила меня к себе, тихонько кивая головою:
– Что он говорит, Яков-то?
– Ругает меня.
– За что?
– За то, что я сказал тебе…
Она тяжко вздохнула.
– Ах – смутьян! И чего ему надо?
Она обиженно надула губы, и круглое пустое лицо ее стало детским.
– О господи… чего людям надо?
По небу ширилась темно-серая туча, грозя бесконечным, осенним дождем. Из окна, ближайшего ко крыльцу, густой струей изливался голос свекрови, слов не слышно было, а только звук, как будто жужжало огромное веретено.
– Это – маменька, – тихонько молвила Надежда. – Она ему задаст! Она меня бережет…
Но я не слушал ее – меня поразили слова, сказанные за окном, спокойно, громко, с тяжелой уверенностью в их правде.
– А ты полно-ка, полно… Ведь это ты от безделья в праведники лезешь…
Я подвинулся ближе к окну – Надежда беспокойно сказала:
– Ты – куда? Тебе слушать не надобно…
А из окна доносилось:
– И бунтовство твое противу людей – у безделья да со скуки, скушно тебе, ты и надумал забаву, будто богу служишь, будто правду любишь, а на деле ты – бесу работник…
Надежда дергала меня за рукав, стараясь отвести из-под окна, – я сказал ей:
– Мне надо знать, что он говорит…
Она усмехнулась, заглянув в лицо мне, и доверчиво зашептала:
– Я ей покаялась: «Маменька, говорю, дошла до меня беда!» – «У, ты, дура», – говорит, да немножечко за косу меня потрепала, только и всего – она меня жалеет!.. Ей – ничего, что я гуляю, ей ребеночка, внучка надо для имущества… наследника…
В комнате Губин крикнул:
– Если грех против закона, так…
Заглушая его, мерно потекли веские слова:
– Тут не везде грех, Яков Петрович, а иной раз просто растет человек и тесно ему в законе. Бросаться друг на друга не надо бы. Чего боимся? Все одинаково дураки перед богом…
Она говорила скучновато или устало, очень медленно и внятно – Губин иногда бормотал что-то, но его слова не проникали сквозь ее мерную речь.
– Осудить человека – не великое дело, Яков Петрович, сударь мой, это всегда успеется – осудить! А ты – дай человеку развернуться до конца – ведь и во грехе польза бывает. Почитай-ко минею: святые угодники божий все до господа сквозь грехи дошли, а – дошли-таки! Это надобно помнить. Господь Саваоф – он ли не терпел на евреях своих? А матерью Исусовой еврейку же выбрал, и пророки и апостолы Христовы – все – евреи, так-то! А мы – торопимся осудить да наказать…






