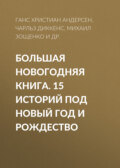Максим Горький
Мой спутник
«Это мой спутник… Я могу бросить его здесь, но не могу уйти от него, ибо имя ему – легион… Это спутник всей моей жизни… он до гроба проводит меня…»
Феодосия обманула наши ожидания. Когда мы пришли, там было около четырёхсот человек, чаявших, как и мы, работы и тоже принуждённых удовлетвориться ролью зрителей постройки мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы. Всюду – и в городе, и вокруг него – бродили группами серые, удручённые фигуры «голодающих» и рыскали волчьей рысью азовские и таврические босяки.
Мы пошли в Керчь.
Мой спутник держал своё слово и не трогал меня; но он сильно голодал и прямо-таки по-волчьи щёлкал зубами, видя, как кто-нибудь ел, приводя меня в ужас описаниями количеств разной пищи, которую он готов был поглотить. С некоторых пор он начал вспоминать о женщинах. Сначала вскользь, со вздохами сожаления, потом чаще, с алчными улыбками «восточного чэлавэка», он, наконец, дошёл до того, что не мог уже пропустить мимо себя ни одной особы женского пола, каких бы лет и наружности она ни была, чтоб не поделиться со мной какой-нибудь практически-философской сальностью по поводу той или другой её статьи. Он трактовал о женщинах так свободно, с таким знанием предмета и смотрел на них с такой удивительно прямой точки зрения, что я только отплёвывался. Однажды я попробовал доказать ему, что женщина – существо ничем не худшее его, но, видя, что он не только обижается на меня за мои взгляды, а даже готов придти в бешенство за унижение, каковому, по его мнению, я подвергал его, – оставил мои попытки до поры, пока он будет сыт.
На Керчь мы шли уже не берегом, а степью, в видах сокращения пути, в котомке у нас была всего только одна ячменная лепёшка фунта в три, купленная у татарина на последний наш пятак. Попытки Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни к чему, везде кратко отвечали: «Много вас!..» Это была великая истина: действительно, до ужаса много было людей, искавших куска хлеба в этот тяжёлый год.
Мой спутник терпеть не мог «голодающих» – конкурентов ему в сборе милостыни.
Запас его жизненных сил, несмотря на трудность пути и плохое питание, не позволял ему приобрести такого испитого и жалкого вида, каким они, по справедливости, могли гордиться как некоторым совершенством, и он, ещё издали видя их, говорил:
– Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут? Развэ Россыя тэсна? Нэ понымаю! Очень глупый народ Россыи!
И когда я объяснял ему причины, побудившие глупый русский народ ходить по Крыму в поисках хлеба, он, недоверчиво качая головой, возражал:
– Нэ понимаю! Какы можно!.. У нас в Грузии нэ бывает таких глупостэй!
Мы пришли в Керчь поздно вечером и принуждены были ночевать под мостками с пароходной пристани на берег. Нам не мешало спрятаться: мы знали, что из Керчи, незадолго до нашего прихода, был вывезен весь лишний народ – босяки, мы побаивались, что попадём в полицию; а так как Шакро путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к серьёзным осложнениям в нашей судьбе.
Волны пролива всю ночь щедро осыпали нас брызгами, на рассвете мы вылезли из-под мостков мокрые и иззябшие. Целый день ходили мы по берегу, и всё, что удалось заработать, – это гривенник, полученный мною с какой-то попадьи, которой я отнёс мешок дынь с базара.
Нужно было переправиться через пролив в Тамань. Ни один лодочник не соглашался взять нас гребцами на тот берег, как я ни просил об этом. Все были восстановлены против босяков, незадолго перед нами натворивших тут много геройских подвигов, а нас, не без основания, причисляли к их категории.
Когда настал вечер, я, со зла на свои неудачи и на весь мир, решился на несколько рискованную штуку и с наступлением ночи привёл её в исполнение.
IV
Ночью я и Шакро тихонько подошли к таможенной брандвахте, около которой стояли три шлюпки, привязанные цепями к кольцам, ввинченным в каменную стену набережной.
Было темно, дул ветер, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели… Мне было удобно раскачать кольцо и выдернуть его из камня.
Над нами, на высоте аршин пяти, ходил таможенный солдат-часовой и насвистывал сквозь зубы. Когда он останавливался близко к нам, я прекращал работу, но это было излишней осторожностью; он не мог предположить, что внизу человек сидит по горло в воде. К тому же цепи стучали беспрерывно и без моей помощи. Шакро уже растянулся на дне шлюпки и шептал мне что-то, чего я не мог разобрать за шумом волн. Кольцо в моих руках… Волна подхватила лодку и отбросила её от берега. Я держался за цепь и плыл рядом с ней, потом влез в неё. Мы сняли две настовые доски и, укрепив их в уключинах вместо вёсел, поплыли…
Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то пропадал из моих глаз, проваливаясь вместе с кормой, то подымался высоко надо мной и, крича, почти падал на меня. Я посоветовал ему не кричать, если он не хочет, чтобы часовой услыхал его. Тогда он замолчал. Я видел белое пятно на месте его лица. Он всё время держал руль. Нам некогда было перемениться ролями, и мы боялись переходить по лодке с места на место. Я кричал ему, как ставить лодку, и он, сразу понимая меня, делал всё так быстро, как будто родился моряком. Доски, заменявшие весла, мало помогали мне. Ветер дул в корму нам, и я мало заботился о том, куда нас несёт, стараясь только, чтобы нос стоял поперёк пролива. Это было легко установить, так как ещё были видны огни Керчи. Волны заглядывали к нам через борта и сердито шумели; чем дальше выносило нас в пролив, тем они становились выше. Вдали слышался уже рёв, дикий и грозный… А лодка всё неслась – быстрее и быстрее, было очень трудно держать курс. Мы то и дело проваливались в глубокие ямы и взлетали на водяные бугры, а ночь становилась всё темней, тучи опускались ниже.
Огни за кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно. Казалось, что пространство гневной воды не имело границ. Ничего не было видно, кроме волн, летевших из мрака.
Они вышибли одну доску из моей руки, я сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Я чувствовал себя жалким и бессильным в этом мраке, окружённый разгневанной стихией и оглушаемый её шумом. Без надежды в сердце, охваченный злым отчаянием, я видел вокруг только эти волны с беловатыми гривами, рассыпавшимися в солёные брызги, и тучи надо мной, густые, лохматые, тоже были похожи на волны… Я понимал лишь одно: всё, что творится вокруг меня, может быть неизмеримо сильнее и страшнее, и мне было обидно, что оно сдерживается и не хочет быть таким. Смерть неизбежна. Но этот бесстрастный, всё нивелирующий закон необходимо чем-нибудь скрашивать – уж очень он тяжёл и груб. Если бы мне предстояло сгореть в огне или утонуть в болотной трясине, я постарался бы выбрать первое – всё-таки как-то приличнее…
…………………………………………………………………….
– Поставим парус! – крикнул Шакро.
– Где он? – спросил я.
– Из моего чэкмэня…
– Бросай его сюда! Не выпускай руля!..
Шакро молча завозился на корме.
– Дэржы!..
Он бросил мне свой чекмень. Кое-как ползая по дну лодки, я оторвал от наста ещё доску, надел на неё рукав плотной одежды, поставил её к скамье лодки, припёр ногами и только что взял в руки другой рукав и полу, как случилось нечто неожиданное…
Лодка прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и я очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой уцепившись за верёвку, протянутую по внешней стороне борта. Волны с шумом прыгали через мою голову, я глотал солёно-горькую воду.
Она наполнила мои уши, рот, нос… Крепко вцепившись руками в верёвку, я поднимался и опускался на воде, стукаясь головой о борт, и, вскинув чекмень на дно лодки, старался вспрыгнуть на него сам. Одно из десятка моих усилий удалось, я оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который кувыркался в воде, уцепившись обеими руками за ту же верёвку, которую я только что выпустил. Она, оказалось, обходила всю лодку кругом, продетая в железные кольца бортов.
– Жив! – крикнул я ему.
Он высоко подпрыгнул над водой и также брякнулся на дно лодки. Я подхватил его, и мы очутились лицом к лицу друг с другом. Я сидел на лодке, точно на коне, всунув ноги в бечёвки, как в стремена, – но это было ненадёжно: любая волна легко могла выбить меня из седла. Шакро уцепился руками за мои колени и ткнулся головой мне в грудь. Он весь дрожал, и я чувствовал, как тряслись его челюсти. Нужно было что-то делать! Дно было скользко, точно смазанное маслом. Я сказал Шакро, чтоб он спускался снова в воду, держась за верёвки с одного борта, а я так же устроюсь на другом. Вместо ответа он начал толкать меня головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело прыгали через нас, и мы еле держались; одну ногу мне страшно резало верёвкой.
Всюду в поле зрения рождались высокие бугры воды и с шумом исчезали.
Я повторил сказанное уже тоном приказания. Шакро ещё сильнее стал стукать меня своей головой в грудь. Медлить было нельзя. Я оторвал от себя его руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь, чтоб он задел своими руками за верёвки. И тут произошло нечто, испугавшее меня больше всего в эту ночь.
– Топишь мэня? – прошептал Шакро и взглянул мне в лицо.
Это было действительно страшно! Страшен был его вопрос, ещё страшнее тон вопроса, в котором звучала и робкая покорность, и просьба пощады, и последний вздох человека, потерявшего надежду избежать рокового конца. Но ещё страшнее были глаза на мертвенно-бледном мокром лице!..
Я крикнул ему:
– Держись крепче! – и спустился в воду сам, держась за верёвку. Я ударился о что-то ногой и в первый момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял. Во мне вспыхнуло что-то горячее, я опьянел и почувствовал себя сильным, как никогда…
– Земля! – крикнул я.
Может быть, великие мореплаватели, открывавшие новые земли, кричали при виде их это слово с бóльшим чувством, чем я, но сомневаюсь, чтоб они могли кричать громче меня. Шакро завыл и бросился в воду. Но оба быстро охладели: воды было ещё по грудь нам, и нигде не виделось каких-либо более существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее и уже не прыгали, а лениво перекатывались через нас. К счастью, я не выпустил из рук шлюпки. И вот мы с Шакро стали по её бортам и, держась за спасательные веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой лодку.