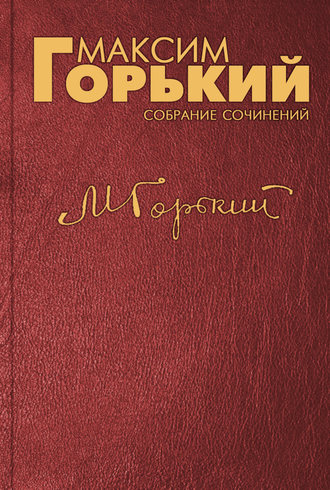
Максим Горький
Навождение
И теперь у него есть к этому аппетит. В Москву ездил, купил мебели на полторы тысячи рублей…
А дед-то на скамье дубовой сидел… Картину купил, – три тысячи заплатил. Да, много дурит парень, много. На чьи деньги? За женой-то только всего сто тысяч взял… Н-да… значит, не безгрешно отцовым-то делом управляет. Ушёл он… Но никакой прочной закваски нет в парне, больно уж он предан этой современности проклятой… Отца боится, но не уважает.
Раньше-то не боялись, раньше страх был пред родителем, но в страхе этом уважение было, почёт родительскому сану…
И ждёт, чай, Яшка отцовой смерти, чтоб на свободе его мошной тряхнуть… Скоро дождётся, поди-ка, – шестьдесят третий год отцу. Ссунет отца в могилу и учнёт пускать городу пыль в глаза… Золотую пыль. Многих ослепит он ею и дорого заплатит за дешёвый почёт. Почёт у него и теперь уже есть – пожертвовал, с отцова благословенья, пять тысяч на какое-то училище и получил за это от города благодарность… Публично, в думе. Это хорошо… Но и то не совсем – приехал из думы и колет глаза отцу: «Вот, папаша, каков должен быть современный образ действий. Изволите видеть – пять тысяч я фукнул и получил за сие публичное одобрение. Но это ещё одни пустые звуки-с, а вот что я получу ещё поставку муки в интендантство, – так уж это теперь моя полная уверенность. Получу-с и вышеозначенные пять тысячей в удесятерённом размере возвращу обратно. Чувствуете? Это и есть цивилизация-с! А в ваше время-с этаких ходов в играх не было!» Врёшь! Были. В старину без мудрёных слов деньгу ковали, и старая деньга – чище нынешней. Проще добывалась, без бесовских ухищрений… А нынче всё делается с бесом, потому простой русской голове и непонятно. Мудрят все… А чего мудрят? Не всё ли равно, не того ли же ищут, что и прежде искали? Все за деньгой охотятся, только лжи больше в теперешнем деле. Ладно, мудрите! Фома Миронов Мосолов, как жил, так и помрёт.
– Ну зачем же? Можно и исправить жизнь… Не поздно ещё…
Фома Миронов вздрогнул и открыл глаза. На стуле перед ним сидел какой-то маленький, худой и бледный человек, с большими ласковыми глазами. Он был не молод и не стар.
Безобидный такой, хилый, он очень подкупал своими глазами, – смотрели они у него так прямо, просто, сразу было видно, что это – душа-человек. Только очень уж он какой-то раздавленный был, словно он тяжести большие всю жизнь носил на плечах своих.
– Вы кто такой будете? – спросил Фома Миронович, поднимая голову и доверчиво улыбаясь человеку.
– А так я… блуждающее существо… Вы, Фома Миронович, не беспокойтесь обо мне, вы собой-то займитесь, – ласково говорил человек тихим и добрым голосом. – Впрочем, ежели вам очень уж интересно знать про меня, так я вам скажу вот что: видите ли, у каждого человека в жизни этакий роковой час бывает, – час, в который колебание испытывает душа человеческая…
Мысли сердца есть у человека, этакие особенные мысли, самые настоящие, человеческие… Так они, обыкновенно, подавлены бывают до времени, и вдруг все вместе соберутся да и отряхнут грязь-то жизни с души. Душа тут и восколебается. Вроде как бы назад она начинает оглядываться на пройденный путь жизни.







