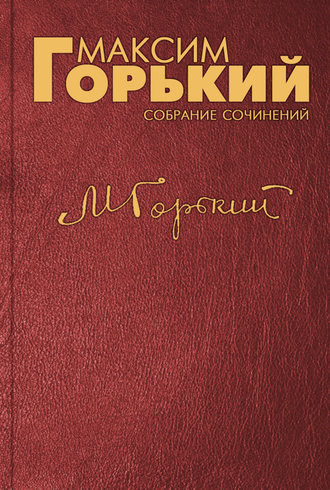
Максим Горький
Прекрасная Франция
Она подошла, села рядом со мной и, с фальшивой лаской взглянув в мои глаза, спросила:
– О чём мы будем говорить? О любви? О поэзии? Ах, мой Альфред Мюссэ!.. И мой Леконт-де-Лиль!.. Ростан!.. – Глаза её закатились под лоб, но, встретив зубы немца над головой, она тотчас же опустила их.
Я не мешал ей красиво болтать о поэтах, молча ожидая момента, когда она заговорит о банкирах. Я смотрел на эту женщину, образ которой все рыцари мира ещё недавно носили в сердцах. Её лицо теперь было нездоровым лицом женщины, которая много любила, его живые краски поблекли, стёрлись под тысячами поцелуев. Искусно подведённые глаза беспокойно бегали с предмета на предмет, ресницы устало опускались, прикрывая опухшие веки. Морщины на висках и на шее безмолвно говорили о бурях сердца, а зоб и толстый подбородок – об ожирении его. Она обрюзгла, растолстела, и было ясно, что этой женщине теперь гораздо ближе поэзия желудка, а не великая поэзия души, что грубый зов своей утробы она яснее слышит, чем голос духа правды и свободы, гремевший некогда из уст её по всей земле. От прежней грации и силы её движений осталась только привычная развязность бойкой бабы, торговки на всемирном рынке. И обаяние великой героини на поле битв за счастье людей она теперь противно заменяла кокетством старой дамы – героини бесчисленных амурных приключений.







