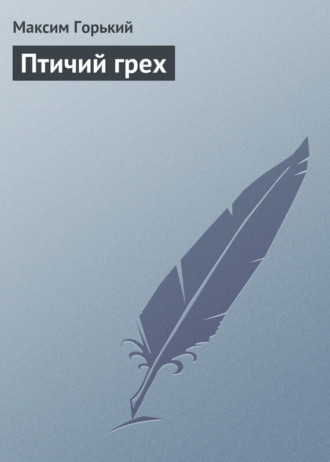
Максим Горький
Птичий грех
– Сидит?
– Сидит, не шелохнется…
– А она?
– Да она в сенях, не видно ее…
Старик, подмигнув мне добрым, светлым глазом, отвел меня за угол избы, оглянулся, поправил шапку и деловито заговорил, поблескивая глазами, морщась:
– Тут, видишь ты, сын отца топором укокал, да и жену повредил; баба-то еще жива, а старичок, тезка мне – Иван Матвеев, – он кончился, упокой господи…
– Снохач? – спросил я.
– Вот, это самое, за сноху потерпел убиенную смерть от руки сына. Через бабу, да… Видал, – за телегой лежит, у задних-то колес?
– Нет…
– А ты поди, взгляни, – воодушевленно и даже с укором посоветовал дядя Иван, дергая меня за рукав. – Кто не пустит? Ты – со мной, я тут вроде за старосту, меня слушают, как же!
Он усмехнулся, снова подмигнул, а ведя меня сквозь народ, поучительно сказал:
– Грехи – учат…
Остановясь у телеги, он снял шапку и приподнял рваный армяк с земли у колес: под армяком распластался такой же, как дядя Иван, небольшой, милый и сухонький старичок. Лежал он, словно споткнувшись на бегу, подогнув правую ногу под живот, вытянув левую и неестественно упираясь плечом в землю. Одна рука заброшена на поясницу, другая – смята под боком; жилистая шея перекрутилась, правая щека утонула в навозе. Голова его была разрублена от уха до уха, – из трещины грибом вылез серо-красный мозг, отвалившийся лоб закрыл ему глаза. Рот, полный мелких зубов, был искривлен и широко разинут, – казалось, что старик этот, крепко зажмурясь от страха, кричит в землю криком, не слышным никому, кроме ее, может быть.







