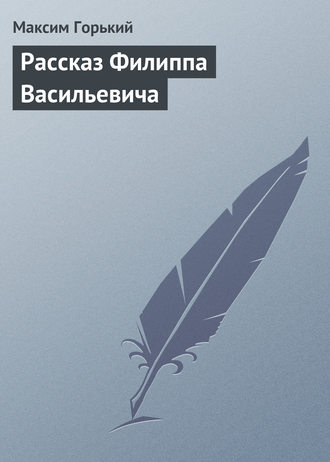
Максим Горький
Рассказ Филиппа Васильевича
– Всё! – с непоколебимой уверенностью отвечал дворник.
– Ну, если так, – восторженно улыбаясь, продолжала она, – если так, дорогой мой Платон…
Лицо её становилось печальным, и, глубоко вздыхая, она заканчивала:
– Поставьте самовар…
Он шёл и ставил самовар, а скулы у него становились острее, и глаза всё глубже уходили под лоб.
Иногда Лидочка, расспросив Платона о силе его любви, заставляла его вымыть её грязные калоши или посылала его с запиской к подруге, и во всём, о чём она его просила, она всегда задевала его любовь.
Вечером, когда собирались гости, она звала Платона, заставляла его читать стихи, и он читал, низко опустив голову, не глядя ни на кого. Его хвалили, он кланялся, а лицо у него было каменное. Лидочка при нём же говорила гостям:
– Ведь недурно, не правда ли? Иногда печатаются стихи хуже этих. Эти – неловки, но искренни… мне известно, что поэт действительно влюблён и – безнадёжно! На пути к его счастью стоят сословные предрассудки и холодное сердце той, которую он воспевает…
Я нахожу, что она обращалась с юношей неосторожно и незаслуженно зло… Мне кажется, что его любовь – оскорбляла её самолюбие и она немножко мстила за это бедняку… Впрочем – и все другие относились к нему не лучше. Старик-профессор был очень добрый человек, он любил любовью мудреца всех насекомых, но и он находил удовольствие в шутках над юношей.
– Послушайте, поэт! – говорил он. – Убедительно прошу вас, не наваливайте вы так много навоза на грядки для спаржи! Я не однажды говорил вам это, а вы всё забываете… и я останусь без спаржи, если дело пойдёт так плохо… Я, впрочем, не сержусь, я понимаю ваше положение… Вас влечёт в Аркадию… Что ж? Законно: в детстве человек болеет корью и скарлатиной, в юности он влюбляется, пишет стихи и мечтает о подвигах… трата времени не очень полезная для жизни… но всё же это лучше, чем благоразумие старости!
Профессор всегда говорил длинно, красноречие его было скучновато, но ему оно нравилось.
Шутила и прислуга – она, конечно, шутила проще и грубее. И, очевидно, все шутки попадали в цель метко, ибо цель была достаточно велика. Но изобретательнее всех была Лидочка, – я не могу скрыть этого и не одобряю, конечно.
Вечерами, при луне, она красиво и задумчиво садилась у открытого окна и громко говорила подругам о том, что любовь – не знает преград, что для неё – нет дворян, нет крестьян, а есть только мужчина, человек, любимый. Платон слышал это.
Потом она звала его, смотрела холодно и сухо в его лицо и заставляла что-нибудь сделать для неё.
Она играла меланхолические пьесы, нежно трогавшие душу влюблённого мягкими и ласковыми аккордами, она пела нежные, тихие песенки, в которых звучало ожидание ласки и тоска о милом, и всё это она делала так, чтобы дворник видел, слышал, чувствовал…
Однажды он подошёл к ней в саду и сказал:
– Зачем вы смеетесь надо мной? Что смешного в том, что я люблю вас? Скоро я уйду из города… мне хочется помнить вас ласковой, доброй… не мучайте меня!
Говорил он тихо и стоял неподвижно, но Лидочка чего-то испугалась в нём и убежала, ни слова не сказав ему.
Но на другой день она не могла отказать себе в удовольствии ещё немножко помучить его, – призвала в комнаты и заставила читать стихи перед двумя её подругами. В стихах шла речь о молодом, крепком дубе, – одна из его веток коснулась лица королевы, и королева приказала срубить дуб. Стихи были неуклюжие; барышни, слушая их, улыбались…
Кончилось это тем, что однажды утром я получил записку от Лидочки:
«Немедленно приезжайте Платоном несчастие Лида».
Она встретила меня растерянная, бледная, полубольная.
– Вы знаете – он застрелился!
– Неужели? – воскликнул я, тяжело поражённый.
– Да, да! Вот вам! – нервозно бегая по комнате, говорила она. – И в этом виноваты вы, вы!
– Я?
– Конечно! Надо было тогда же, сразу отказать ему от места, а вы сказали – нельзя! Вот теперь… Бедный! Мне его жалко…
На глазах у неё сверкали слёзы, видно было, что плохо спала ночь и много плакала…
– Если бы я знала, что он… серьёзно… я бы не позволяла себе шутить, – говорила она, приложив платок к лицу и вздрагивая. – Говорят, он ещё жив… поезжайте к нему! Я не могу… я потом… Папа так расстроен… и всем его жалко… он был такой оригинальный!
Дитя! Она и тут говорила о нём, как о сломанной игрушке…
Я тотчас же поехал в больницу и по дороге печально думал о Платоне. Он казался таким крепким, твёрдым – и вот, при первом же столкновении с жизнью, опрокинут и разбит. Этой неустойчивости, вполне понятной в культурном человеке, живущем нервной жизнью, я не понимал в Платоне…







