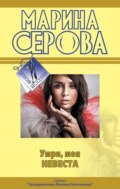Марина Серова
Линия мести
Пролог
Дождь упрямо и методично барабанил по крышам домов, заливая дороги обширными лужами, перемешивая землю в липкую грязь. Тусклые фонари уныло освещали серые одинокие улицы, в домах грязно-желтым горели окна, их свет незначительно дополнял свет фонарей. Прохожих не было – и это ужасало ее. Сейчас она бы отдала все на свете, лишь бы в проулке показался хоть один человек, не важно кто – женщина, мужчина, ребенок… Она давно потеряла счет времени и понятия не имела, куда бежит. В голове звучала только одна-единственная мысль: ей не оторваться от погони. Он преследует ее и каким-то неведомым образом предугадывает каждое ее движение. Она петляла, словно лисица, за которой гналась свора охотничьих собак, пыталась спасти свою жизнь, одновременно понимая: у нее практически нет шансов. Она обречена.
Ноги увязали в грязи, она неловко спотыкалась, падала, но вставала и продолжала свой безумный бег. Ее волнистые густые волосы, еще утром уложенные в элегантную прическу, сейчас растрепались и мокрыми прядями падали на лоб и глаза, одежда местами порвалась, на сапоги налипла грязь и опавшая осенняя листва. Сейчас сложно было узнать в ней недавнюю эффектную молодую женщину с идеальным макияжем и в стильной, грамотно и с любовью подобранной одежде. Сейчас она больше всего напоминала загнанную в угол жертву, воплощение ужаса и отчаяния. Временами она вскрикивала, звала на помощь, но крики срывались на судорожные рыдания, а в ушах звенел размеренный гул его шагов. Шагов, предвещавших смерть…
Улица резко завернула и как-то неожиданно сузилась. Никаких ответвлений и развилок она не увидела, поэтому побежала вперед, все еще лелея слабую надежду оторваться от преследователя. Она цеплялась за эту надежду, как утопающий за соломинку. Увы, соломинка оказалась слишком тонкой, слишком хрупкой, слишком непрочной…
Вдруг улица резко оборвалась, перед ней откуда ни возьмись выросла стена. Она судорожно озиралась по сторонам, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку, выход… Но выхода не было. Только стена, о которую разбивались вдребезги все ее попытки спастись.
Она обернулась – медленно, как будто ее тело само, без ее приказа совершило это движение. Она слышала свое дыхание будто со стороны. Может, это – свист ветра? Шорох листвы того деревца, на которой срывает свою злобу отчаянный октябрьский дождь? Да-да, это, должно быть, листья, те, которые еще остались, не облетели – наверно, это их звук, такой громкий и резкий… Нет, не может быть это ее дыханием – она вообще не дышит, ее сердце замерло и не бьется, и дышать она не может. Но… тут ведь стена, никакого дерева быть не должно… Свист. Угрожающий и зловещий, словно шипение ядовитой змеи, которая готовится к броску. В детстве она как-то смотрела передачу про змей – какой-то ученый рассказывал про повадки этих пресмыкающихся и показывал самых ядовитых и опасных гадов крупным планом. Змеи внушали сложные чувства: одновременно отвращение, страх, и в то же время они как-то завораживали своими движениями, в каждом из которых сквозила смерть. Та передача, которую она смотрела в детстве, давно забылась, однако сейчас в памяти всплывали кадры, на которых плавно перетекали гибкие змеиные тела – вот они двигаются мягко и грациозно, на экране мелькают цветные причудливые узоры чешуи, и вдруг – напряжение мощной мускулатуры, змеиная голова оборачивается в сторону жертвы, и… мощный бросок. Острые зубы-жала впиваются в добычу, впрыскивая смертельную дозу яда. Жертва парализована, а тихий убийца обвивает ее своими кольцами, стискивает до хруста костей и хрящей, разевает страшную пасть и начинает заглатывать свою трапезу целиком, натягиваясь на нее, точно чулок.
А свист приближался. Она не видела фигуру человека, который шел словно бы мимо, как будто спешил по своим делам и внезапно решил свернуть в тупик, увидев ее. Поговорить с ней. Потолковать по душам. Побеседовать о погоде. Поговорить.
Он не бежал, как раньше. Куда бежать? Зачем? И так все очевидно. Жертва в тупике. В ловушке, из которой нет выхода. Как все банально и скучно, как все предсказуемо! Он порядком устал от этой обыденности. Он ведь надеялся, что сейчас все будет по-другому. Он хорошо изучил ее и думал, что она окажется не такой, как другие, до нее. Женщины… Каждая считает себя особенной, каждая думает, что другой такой не сыскать. Но почему его ожидания опять не оправдались? Она же была другой, он верил ей! Он верил, что она не такая, что она изменит его представление, что она будет иной… Он давно предвкушал этот момент, как ребенок с нетерпением ждет новогоднюю ночь, зная, что под елочкой найдет необыкновенный подарок, мечту всей своей жизни. Но бьют куранты, взрослые выпивают фужеры шампанского, и ребенок бежит к золотистой коробочке, перевязанной яркой ленточкой. Предвкушение чуда, радости, удивления, волшебства… Разрывает ленточку, не в силах удержать своего нетерпения, разворачивает подарок, и…
Шоколадка. Простая шоколадка, которая всегда преподносится в качестве подарка. Яркая обертка, многообещающая тайна, загадка и такое ничтожное содержание! Разочарование. Обида. Неверие в чудо и волшебство.
Сейчас он чувствовал себя тем самым ребенком. Яркая обертка, которую он так мечтал развернуть, скрывала самое обычное, обыденное наполнение. Она снова разочаровала его. Она оказалась такой, как все. Зачем она обманывала его? Зачем внушала ему ложные надежды? Она ведь заставила его поверить, что на этот раз все будет по-другому! Она должна была стать тем чудом, которого он так ждал, она должна была стать исключением из правил!
Увы. Его снова обманули. Глаза, в которых застыл ужас, напряженная поза, грязная, изодранная одежда. Как все скучно и банально! Она должна поплатиться за свою ложь. Она ответит за свой обман. Она будет страдать так же, как страдает он, потому что она виновата в его разочаровании!
Он устало улыбнулся и достал остро заточенный нож. Лезвие молнией блеснуло в темноте, отразившись в ее глазах. На ее лице застыл ужас, а на его – вымученная ухмылка.
Глава 1
Мягкие теплые волны набегали на берег, слегка поглаживая песок и гальку, и ракушки, передвигая их осторожно, словно опасаясь нарушить гармоничную, идеальную картину. В их мерном рокоте слышались какие-то бормотания, неясные звуки, складывающиеся в гортанную, убаюкивающую песню. Волны приятно щекотали кожу, вычерчивая на ней замысловатые узоры, которые тут же исчезали, стоило воде отхлынуть от берега. Каждый раз новые орнаменты, каждый раз меняющаяся колыбельная: вроде слова одни и те же, но комбинация всегда немного другая, как в калейдоскопе – снова и снова новая картинка. Солнце не палило, а также мягко ласкало тело, точно договорилось с теплыми морскими волнами, что сегодня оно не будет резко обдавать своим жаром, а в унисон с морской водой принесет лишь блаженство и умиротворение. Плавно и медленно текут волны, и точно так же размеренно передвигаются мысли в голове – все размытые, не ясные, не беспокоящие, а какие-то туманные. Вроде как хочется поймать одну из них и разглядеть, о чем она, но это не удается – неясные образы никак не получается рассмотреть, а сонные слова не различишь в тихом бормотании. Только размытые картинки, все как одна – абстрактные и непонятные, и колыбельная – убаюкивающая, но невнятная.
Эти образы и звуки расслабляют и ненавязчиво предлагают расслабиться и отдаться чувствам и ощущениям. В обычной жизни полно всевозможных раздражающих мыслей, забот или воспоминаний, которые наполняют мозг целиком. Если сосредотачиваться на каждой мысли в отдельности, то можно упустить другие. А что, если эти мысли все убрать? Что тогда останется? Это страшно – если в голове не будет ничего, можно столкнуться с пугающей пустотой. А может, в пустоте – ответы на все вопросы? Может, эта пустота и есть та внутренняя гармония, которая скрыта под налетом дум и переживаний?
А волны и солнце – они помогли спрятать все тревоги и волнения. Они словно убрали все мешающее, все раздражители, которые не так-то просто уничтожить. Если бы знать раньше, как хорошо и спокойно без них, какое это блаженство – ни о чем не думать и только ощущать мягкие теплые прикосновения, ласку приятных волн и мерный рокот бескрайнего моря… Возможно ли это – отпустить весь хаос забот и тревог, отвлечься от них и позволить себе просто быть? Просто существовать, не оценивая происходящее? Меркнут все вопросы, которые доставляют сплошные неудобства и дисгармонию, и вот уже не осознаешь, кто ты, для чего ты, как тебя зовут, чем ты занимаешься и…
– Как тебя зовут?
Волны… Они спрашивают, как меня зовут… Да какое это имеет значение? Не знаю, как меня зовут и кто я… Я – это просто я. Я тут. Я существую. Или не существую? Может, я – это всего лишь одна из тех волн, что набегают на берег? Вот я здесь, а через мгновение меня не будет – я растворюсь среди других волн, сольюсь воедино с морем и стану просто водой. Я – это безграничное море, которое просто существует, оно бескрайнее, безграничное…
– Кто ты?
Кто я… Зачем эти вопросы? Скажите, зачем они? Разве вы не видите, что меня нет? Я – часть моря и неба, которым неподвластно время, которые не чувствуют ни усталости, ни страха, ни боли…
Боль. Почему она есть? Она есть, несмотря на то что меня почти нет. Странно. Так не может быть, это неправильно, нелогично! Разве море или небо чувствуют боль? Нет. Так почему я ее ощущаю? И она становится все сильнее и сильнее, она заставляет меня перестать быть морем и небом… Почему она не отпускает меня? Почему она есть, когда меня нет?…
– Ты помнишь свое имя? Фамилию? Сколько тебе лет? Как называется твой родной город? Говори, я вижу, что ты очнулась! Вспоминай!
Я… я ведь не могу говорить. Или могу? И где море и небо? Почему я не вижу волн и солнца? Почему здесь все так… все так уныло, неестественно, неправдоподобно? Что это – светло-голубое, но не такое живое, как небесная гладь? Оно ненатуральное, фальшивое! Это обман, этого не существует! Верните мне море, небо и…
– Кто ты такая?
Я… я не помню! Или… или…
– Я… Женя. Да, я правильно сказала?…
Сказала я только первую часть фразы – о второй подумала, но произнести ее, похоже, не смогла. Она слишком сложная и длинная, а говорить мне больно. Каждое слово отзывается болью в плече. Ведь это плечо, да? Не нога, не кисть. Плечо… Которое жутко болит, и кажется, что боль расползается по всему телу. Лучше не говорить и не шевелиться, чтобы не позволять боли рассредоточиваться по мне. Лучше молчать…
– Не молчи. Назови свою фамилию. Знаю, больно, но потерпи. Помнишь что-нибудь?
– Нет… – мне показалось, что я сказала это короткое слово, но боль пульсировала только в левом плече, не растекаясь по руке, шее, голове, животу… Значит, я лишь подумала об этом…
– Вспоминай.
Да кто это такой наглый, что достает меня своими расспросами? Почему я вообще должна на них отвечать? Да верните меня назад, я хочу лежать на морском берегу, смотреть на волны и гальку, хочу наслаждаться солнцем и небом, а не видеть эти мерзкие голубые стены!
Стены. Вот как это называется. Мои глаза уже привыкли к голубому цвету, я даже могу опустить их ниже, чтобы разглядеть это существо, которое притащило меня сюда из того блаженства и неги. Из… рая?… Если море и небо – рай, то наверняка голубые стены – это ад. А я вообще верю в рай и ад? Может, они не существуют? Откуда я вообще это взяла?
– Где ты живешь? Назови город.
Я опустила взгляд и уставилась на лицо, скрытое под светло-голубой маской и таким же голубым колпаком. Я вижу только глаза, темные и в очках. Все остальное скрыто, непонятно, как этот человек выглядит. Но, судя по всему, ничего хорошего от него ждать не приходится, раз он утащил меня с морского побережья и каким-то неведомым образом перенес сюда.
– Кто вы? – кое-как прошепелявила я. Почему-то в мыслях у меня куда лучше получалось говорить и задавать вопросы. Стоило мне попытаться разлепить затекшие губы, как тело вновь ответило жуткой режущей болью. Ее невозможно было терпеть – я в изнеможении закрыла глаза, чтобы не видеть всю эту дурацкую голубую картинку. Однако боль не пропала, а даже усилилась.
– Отлично. – Чудище в очках, маске и колпаке почему-то осталось довольным мною. – Раз задаем вопросы, значит, есть надежда избежать полной амнезии. Для начала скажи все, что ты помнишь о себе.
Я не стала раскрывать глаза, понадеявшись, что, может быть, судьба сжалится надо мной и вернет туда, откуда меня так грубо вытащили. Напрасная надежда. Я с трудом разлепила веки – чудище в голубом никуда не исчезло, равно как и голубые стены. Я даже различила несколько других таких же чудовищ в голубом. И куда я попала?…
– Море… – прошептала я и снова закрыла глаза.
– Бредит, – тут же прокомментировало пытавшее меня чудище. Внезапно я поняла: это оно заставляет меня мучиться от боли! Оно во всем виновато, из-за него я страдаю вместо того, чтобы спокойно отдыхать на морском берегу! Да что я ему сделала-то? Почему оно не оставит меня в покое?…
– Итак, тебе говорить трудно, – продолжал вещать этот садюга. – Поэтому расскажу тебе немного о том, что произошло. По мере моего рассказа ты будешь что-то вспоминать, поэтому перебивай меня в любой момент. От того, сколько ты вспомнишь, зависит твое будущее и то, насколько мы тебе сможем помочь. Итак, ты находишься в больнице. Ты попала сюда с огнестрельным ранением плеча. С одной стороны, тебе повезло, а с другой – не очень. Повезло в том, что пуля не задела кость, так как в этом случае ты могла бы лишиться руки. Не повезло потому, что ранение серьезное, задеты сосуды. Но операцию тебе уже сделали, под общим наркозом. Пулю извлекли. Еще неприятный момент: у тебя сотрясение головного мозга, правда, легкой степени. С этим пока все понятно? Давай, отвечай.
Я попыталась увильнуть от ответа – он же сам сказал, что мне больно говорить, однако врач (чудище оказалось врачом, как я поняла из его речи) оказался настырным.
– Кивать ты не сможешь, точнее, сможешь, но будет очень больно, – заявил он. – Боль ведь бывает разная – с некоторой можно мириться и можно ее терпеть, а вот от некоторой люди и сознание теряют. Когда ты сюда попала, то боли не испытывала – у тебя был шок. Но сейчас тебе будет не слишком легко, однако вытерпеть это можно. Говорить ты можешь, поэтому отвечай.
– Да… – прошелестела я. Врач снова оказался доволен.
– Еще приятная для тебя новость – рукой ты сможешь управлять, жизненно важные функции не нарушены, но нужно время на восстановление. То есть ты сможешь делать все, что делала раньше – ты чем вообще занималась по жизни? Профессию свою помнишь?
Вопрос заставил меня задуматься. В голову упрямо лезли мысли о море, но потихоньку они стирались и становились неясными, точно далекое воспоминание из прошлого. Однако на вопрос врача я ответить не смогла.
– Не помню… – заставила я себя произнести. – Это важно?
– Вообще-то да, – заметил врач. – Ты же не собираешься провести в больнице остаток своей жизни? Тебе придется вернуться к своим занятиям, как только тебя выпишут. Не скоро, конечно, но быстрее, чем можно себе вообразить. Попробуй все-таки вспомнить хоть что-то из своей жизни. Может, ты любишь чем-то заниматься? Учишься, работаешь? У тебя много друзей? Семья есть? Муж, дети?…
Я заставила себя напрячь память, пытаясь вспомнить хоть что-то из того, о чем говорил врач. Чем я люблю заниматься? Не помню. Есть ли у меня друзья? Тоже не знаю… Семья? На ум ничего не приходит…
– Я не знаю, – снова сказала я. На сей раз врач нахмурился.
– Что ж, спишем это на действие наркоза. Надеюсь, со временем ты все вспомнишь. По крайней мере, должна вспомнить – сотрясение у тебя легкой степени, память ты потерять не должна, твоя амнезия, скорее всего, защитная реакция организма после стресса. Пока ты находишься в реанимации, но думаю, через три-четыре дня тебя переведут в общую палату. Операция прошла успешно, поэтому скоро пойдешь на поправку.
Память вернулась ко мне раньше, чем прогнозировал оперировавший меня доктор. Первое время после операции я находилась в отдельной палате, где постоянно дежурили врачи. Или медсестры – они постоянно менялись. Не могу сказать точно, сколько часов или суток прошло: я не следила за временем, временами я бодрствовала, а временами проваливалась в полусон-полубред. Когда я открывала глаза, то неизменно видела перед собой кого-то в голубой больничной униформе, иногда с маской, а иногда без нее. В основном это были женщины – они переставляли капельницы, подключали какие-то провода к медицинским приборам, приносили лекарства. Стоило мне закрыть глаза (как я думала, ненадолго), происходили какие-то изменения. Очнувшись, я видела перед собой другую женщину, и она тоже что-то делала. Эти «голубые картинки», как прозвала я про себя сценки с медсестрами или врачами, перемежались другими, зачастую непонятными мне.
Моря и неба я больше не видела, о чем порой сожалела. Вместо этого в памяти возникали разные люди: мужчины, женщины, реже – дети. Одно лицо появлялось чаще других. Я полюбила его рассматривать – оно казалось мне приятным и дружелюбным, в отличие от остальных лиц.
Женщина была гораздо старше меня. Я не могла разглядеть ее черты – у меня оставалось только общее впечатление. Выражение ее лица было заботливым и любящим, точно она хотела помочь мне, точно… любила меня? Может, это моя мама? Наверно, а кто еще кроме мамы может обладать таким лицом? Тогда почему я вижу ее, только когда у меня закрыты глаза? Почему она не приходит ко мне, не навещает меня? Почему вокруг только незнакомые женщины в голубой униформе? Я не хочу их видеть, я хочу, чтобы со мной была именно та добрая женщина, моя мама!
Но она не приходила ко мне. Я видела ее только во сне-бреду – точно не могу сказать, что это такое было. Какое-то беспамятство, в которое я внезапно проваливалась, словно в зыбкую трясину. Оно накрывало меня, будто цунами, и я не могла противостоять ему. Я не хотела погружаться в него, потому что боялась. Вдруг я увижу кого-то страшного? Вдруг эти незнакомые люди причинят мне боль, вдруг они станут требовать от меня что-то? Пусть лучше перед моим мысленным взором будет моя мама – видения с ней я любила, а вот все эти странные мужчины и женщины вызывали у меня только негодование. Но я не могла от них отвязаться – они то и дело приходили ко мне, что-то говорили, но я не могла понять их бессвязную, неразборчивую речь…
Это случилось утром. Я точно помню, что было утро – в окно палаты светило солнце, впервые за долгое время, и сначала я не могла разглядеть никакие предметы в комнате. Солнечные зайчики прыгали, как живые, и, несмотря на боль в плече, которая не отпускала меня, несмотря на все обезболивающие препараты, я испытала некое подобие радости. Какое-то время я молча наблюдала за подвижными яркими лучиками, и чем-то они напоминали мне почти забытые мною морские волны, из которых меня так резко вырвали и поместили в эту палату. Солнечные зайчики точно играли со мной, предлагая и мне включиться в их прятки-догонялки. Они появлялись то на стене, то на белом покрывале моей кровати, то на столе… Мне казалось, что они даже разговаривают со мной, рассказывают, как сегодня хорошо и тепло на улице, как чудесно в солнечном небе, как красиво стелется травка по земле, как трепещут на теплом ветерке ярко-зеленые листья… «Идем с нами, ты тоже будешь играть, бегать и прыгать!» – уговаривали они меня. «Но я не могу, у меня болит плечо!» – протестовала я. Хотя в глубине души мне так хотелось поддаться на их уговоры и тоже почувствовать себя солнечным лучиком, который так быстро прыгает, который не испытывает ни боли, ни страданий. «Да нет же, у тебя ничего не болит! – возражали мне солнечные зайчики. – Это тебе только кажется, что болит плечо, а на самом деле боли нет!»
Они не понимают, с ужасом и отчаянием думала я. Они не понимают, они обидятся на меня, но у меня ведь болит плечо, и я толком ничего не помню… А может, мне и не нужна память? Ведь лучше обойтись без нее – тогда, может, не будет этих бесконечных верениц людей, которые что-то говорят мне, а я не могу их понять. Да, лучше я обойдусь без памяти. Так спокойнее, приятнее, лучше… Но… Если у меня не будет памяти, то я не узнаю, кто та женщина, которую я вижу постоянно! Сначала я думала, что это моя мама, но чем чаще я видела ее, тем сильнее убеждалась, что ошибаюсь. Нет, это не моя мать. Она кто-то еще из моего прошлого, близкий мне человек, но совсем не моя мама. Но кто она?
Солнечные зайчики что-то еще говорили мне, убеждали оставить все мысли, все тревоги, забыть все, позволить памяти не возвращаться ко мне. Но сейчас я твердо решила: мне нужна моя память! Мне нужны мои воспоминания, иначе я так и не узнаю, кто я, зачем живу и что делаю, что я люблю и не люблю, чем привыкла заниматься! Я поняла, что не вспоминала ничего по той простой причине, что сама отгораживалась от образов, которые пытались до меня достучаться! Не из-за снотворных и обезболивающих я ничего не помнила, а только по причине своего нежелания помнить! Если бы я позволила своим воспоминаниям пробиться сквозь стену, которую я сама выстроила, то вспомнила бы все гораздо раньше! Но сейчас я твердо решила: я хочу вспомнить все. Всю свою жизнь, какой бы она ни была! Я не буду больше гоняться за тем блаженным неведением, за той обманной легкостью беспамятства! Мне важно установить, кто я такая!
Я уже не обращала внимания на солнечных зайчиков – для меня они перестали существовать. В памяти всплывали одна за другой разные картинки, но теперь я не прогоняла их и не отгораживалась от них. Те люди – они были мне знакомы. Я каким-то образом была связана с каждым из них, что-то делала для них – или они для меня?… Нет. Все не так. Люди – мои клиенты. Я работала на них. Но что я делала? Может, я их стригла? Может, я парикмахер? Нет, не то. Слово «парикмахер» никак не отзывается в моем сознании. Значит, ошибка. Я художник, который рисовал их? Тоже не то. Я…
Резкая вспышка осознания пронзила всю меня целиком. Я некоторое время пыталась принять это открытие и в то же время не понимала, как не могла додуматься до этого раньше. Как же все просто на самом деле! Нет у меня никакой матери, я не художник-портретист, а женщина из галлюцинаций является моей тетей. Ее зовут Мила. Тетушка Мила… Она очень любит меня, и я привязана к ней. Она любит готовить, и у нее это прекрасно получается. А вот я, напротив, готовить не умею. У меня нет мужа и детей, я не люблю и не умею рисовать, не занимаюсь шитьем или рукоделием. Зато я владею восточными единоборствами, превосходно стреляю, могу быстро обучиться любому виду спорта. Вдобавок ко всему я обладаю превосходной памятью и знаю несколько иностранных языков. Я умею водить машину, у меня есть свой собственный автомобиль – «Фольксваген». И ко мне постоянно обращаются люди. Я им помогаю.
Я – телохранитель Евгения Охотникова.
Последующие дни протекали однообразно, за тем лишь исключением, что в часы моего бодрствования я вспоминала детали своей жизни. В мою палату постоянно приходили врачи и медсестры – они ставили капельницы, проверяли повязку, давали мне лекарства. Хотя большую часть времени я проводила в полубреду-полусне, мне все же становилось лучше. Боль в голове и плече не была уже такой резкой, как раньше, хотя и доставляла мне беспокойство. Неприятные ощущения не проходили, но с ними можно было хоть как-то существовать. И еще теперь я хотя бы знала, кто я такая, чем занимаюсь и вообще зачем живу. Это значительно облегчало мое состояние, потому что находиться в неведении, пускай и таком блаженном, все же ужасно.
Мой лечащий врач – не тот хирург, который оперировал меня, а другой, мужчина средних лет в больничной униформе – часто навещал меня и пытался разговорить. Я отвечала на его вопросы, однако не сообщала, чем я занималась в своей прошлой жизни. Почему-то я была уверена: по поводу своей профессии мне лучше не откровенничать. На вопросы врача, кто я по специальности, я врала, что не помню, потом говорила, что училась в каком-то университете, однако после него не работала. По крайней мере, я не помню, чем занималась до ранения. В свою очередь, я старалась выведать у доктора, что ему известно про обстоятельства моей травмы. Как ни пыталась я вспомнить, кто в меня стрелял, на ум ничего не приходило. Врач тоже не знал, каким образом я получила пулю и сотрясение мозга. А может, знал, но по какой-то причине не хотел мне рассказывать? В таком случае моя ложь по поводу моей профессии не имеет никакого смысла. Но все же я продолжала играть роль жертвы амнезии.
Степан Сергеевич – так звали моего лечащего врача – навещал меня в среднем два раза в день, иногда чаще. Все остальное время возле меня находилась какая-нибудь медсестра. Я всегда спрашивала, как зовут мою очередную сиделку, стараясь запоминать имена и отчества, дабы окончательно восстановить свою память. Пока за мной ухаживали четыре медсестры: Роза Андреевна, женщина лет сорока – сорока пяти в светло-розовом халате и колпаке, Наталья Владимировна, молодая фигуристая женщина с кудрявыми волосами, Вера Алексеевна, довольно строгая и неразговорчивая, и Любовь Романовна, которая производила впечатление добродушной и жизнерадостной особы. Поначалу я не стремилась завести разговор с медсестрами, однако потом поняла, что чем чаще я стану общаться с окружающими, тем скорее восстановлюсь. Поэтому я охотно поддерживала любую беседу – в основном о ничего не значащих вещах. Когда я находилась одна в палате, то пыталась вспомнить грамматику тех иностранных языков, которые знала. Придумывала про себя фразы на французском, английском, испанском, составляла простые предложения. Однажды я попросила Степана Сергеевича принести мне томик каких-нибудь стихов. Врач сперва удивился, потом решил, что в обычной жизни я люблю поэзию, и в очередной свой визит положил на прикроватную тумбочку томик Есенина. Я не стала объяснять ему, что решила заучивать наизусть стихи, дабы восстановить свою память. Первоочередной моей задачей стало вспомнить, при каких обстоятельствах я попала в больницу, и для этого я использовала все методы, которые казались мне подходящими.
Все же у меня пока было слишком мало сил на то, чтобы долго читать, не говоря уже о том, чтобы учить стихи. Поначалу я не могла даже прочитать одно стихотворение – уставала правая рука, которая держала маленькую карманную книгу, начинала болеть голова, и я просила дежурившую рядом медсестру дать мне обезболивающее и забрать книгу. Я даже не успевала разозлиться на собственное бессилие – когда проглатывала очередную таблетку, на меня нападала сонливость, и я проваливалась в дремоту. Когда открывала глаза, пыталась взять книгу снова. Сперва это тоже не удавалось – стоило мне пошевелить хотя бы пальцем руки, как начинало болеть травмированное плечо. Я превозмогала боль, брала книгу, но пальцы не удерживали томик, и тот падал на пол. Я чувствовала себя беспомощным инвалидом. От бессилия на глаза наворачивались слезы, и мне приходилось успокаивать себя тем, что такое состояние временно, оно не навсегда. Самое сложное – операция – миновало, пулю вытащили, поэтому надо просто перетерпеть это время. Вскоре мой организм окрепнет, я разработаю свои руки и ноги, и память вернется ко мне окончательно. Ведь хирург говорил, что мне повезло – все могло быть гораздо хуже. По крайней мере, обе руки у меня на месте, пускай одна и с дыркой от пули. Но это ведь лучше, чем утрата конечности! Я не такая слабая барышня, чтобы переживать относительно своего временного бессилия. Я стараюсь, я прикладываю усилия, чтобы восстановиться. Нужно просто терпение и время, чтобы окончательно пойти на поправку.
Из-за своей беспомощности и слабости я не могла выполнять даже такие простые повседневные действия, которые в нормальном состоянии человек выполняет на автомате. Мало того, что я все время лежала, не вставая на ноги, после операции я не могла даже жевать твердую пищу, – последствия наркоза, как мне объяснили. Вообще не помню, как я ела первое время – может, мне вводили зонд искусственного питания? В памяти осталось только то, как Роза Андреевна принесла мне в палату тарелку с бульоном и поставила его на тумбочку. Чтобы взять ложку и немного привстать на кровати, мне пришлось приложить уйму усилий. Наверно, я битый час пыталась устроиться так, чтобы ухитриться кое-как проглотить ложку бульона. Когда с помощью медсестры я кое-как приподняла голову, под которую Роза Андреевна тут же положила подушку, мои силы иссякли. От мысли, что еще надо как-то взять ложку в руку, я пришла в отчаяние. Медсестра заставила меня самостоятельно взять ложку, хотя и могла помочь мне.
– Давай, постарайся! – подбадривала она меня. – Когда-то ведь надо начинать! Тебе придется и ходить учиться. Взять ложку – это же просто! Давай!
Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что мне удалось проглотить пару глотков бульона, после чего я в изнеможении откинулась на подушку и закрыла глаза. Роза Андреевна взяла из моей руки ложку и сама принялась зачерпывать бульон и подносить его к моему рту. Не знаю, как я не подавилась – возможно, сработал инстинкт самосохранения, который заставляет человека как-то питаться, дабы не умереть с голоду. Да, не пожелаю я никому пережить такие мгновения жизни – ничего хорошего, мягко говоря, в них нет.
Не знаю, сколько прошло времени, но однажды наступил момент, когда я смогла не просто самостоятельно встать с кровати, но даже пройти несколько шагов по больничной палате. Это действие далось мне с неимоверным трудом – я совершенно не владела своим телом и даже не смогла удержать равновесие. На мое счастье, Степан Сергеевич поддержал меня и опустил на кровать. И медсестра, и врач хвалили меня, говорили нечто вроде «молодец, ты справишься!». Но мне это никакого облегчения не приносило. Напротив, я подумала, что память подвела меня и никакой я не телохранитель – судя по воспоминаниям, я мастерски стреляла, бегала, прыгала, дралась… Нет, скорее, это не я, а кто-то другой. Я человек, точнее то, что осталось от человека, который не может самостоятельно ухаживать за собой, не может передвигаться и совершать простые действия. Я растение, овощ, безнадежный инвалид, которому до конца жизни придется пользоваться услугами сиделки.
– Почему это случилось со мной? – спрашивала я врача. – Я что, никогда не смогу ходить? Ведь у меня повреждено плечо, а не ноги! Скажите, у меня травма позвоночника, да? Я буду парализована? А вы мне не говорите это, ведь так?