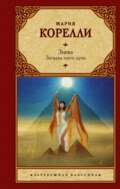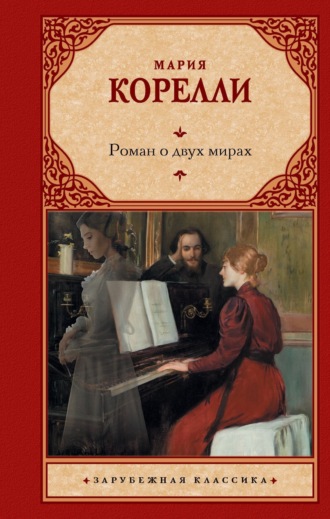
Мария Корелли
Роман о двух мирах
– Друга, о котором вы говорите, зовут ГЕЛИОБАС?
Челлини вздрогнул, кровь прилила к лицу и так же быстро схлынула, отчего он стал бледнее прежнего. Его темные глаза светились от едва сдерживаемого волнения, рука дрожала. Медленно приходя в себя, он пристально посмотрел на меня: его взгляд смягчился, и он с благоговейным почтением склонил голову.
– Мадемуазель, вижу, что вы, должно быть, многое знаете. Это ваша судьба. Вам можно лишь позавидовать. Приходите ко мне завтра, и я расскажу вам все, что должен. После ваша судьба будет только в ваших руках. А сейчас больше ни о чем меня не спрашивайте.
Он без лишних слов проводил меня обратно в бальный зал, где играли веселый котильон. Шепнув по пути миссис Эверард, что я устала и иду спать, я вышла за ним в коридор и там, повернувшись, тихо произнесла:
– Спокойной ночи, синьор. Я приду завтра в полдень.
– Спокойной ночи, мадемуазель! Завтра в полдень буду вас ждать.
С этими словами он учтиво поклонился мне и ушел. Я поспешила в свою комнату, где не могла не заметить поразительной свежести ландышей, что носила на себе весь вечер. Они выглядели так, будто их только сорвали. Я сняла цветы с платья и осторожно поставила в воду, затем, проворно раздевшись, как можно быстрее оказалась в постели. Несколько минут я размышляла о странностях этого дня. Вскоре мысли мои стали туманными и спутанными, а сама я перенеслась в сонное царство, где мой покой не потревожило ни одно видение.
Глава V
История Челлини
На следующее утро я пришла в мастерскую Челлини в назначенный час и была принята им со свойственной ему невероятной учтивостью. Я уже чувствовала нарастающие слабость и усталость, явные предвестники того, что мне предсказывал художник, – возвращение всех моих прежних страданий. Эми, вымотанная прошедшей ночью танцами, все еще нежилась в постели, как и многие из тех, кто веселился на празднике мадам Дидье, так что в отеле было необыкновенно тихо, словно половина постояльцев за ночь съехали. Утро выдалось чу`дным – солнечным и тихим. Челлини, заметив мою вялость и апатию, поставил мне у окна удобное кресло, чтобы я могла наблюдать один из лучших уголков сада, пестрящий бутонами всех цветов и ароматов. Сам он продолжал стоять, одной рукой опершись на заваленный письмами и газетами стол.
– А где Лео? – спросила я, оглядывая комнату в поисках благородного зверя.
– Лео прошлым вечером отправился в Париж, – ответил Челлини, – унес очень важное для меня послание. Я побоялся доверить его почтовым службам.
– А у Лео оно в безопасности? – полюбопытствовала я, улыбнувшись: смышленость этой собаки одновременно забавляла и поражала меня.
– Еще бы! К ошейнику Лео приделана небольшая металлическая коробка, вмещающая несколько сложенных листов бумаги. Когда он понимает, что во время своего путешествия должен охранять эту коробку, приблизиться к нему попросту невозможно. Он кинется на любого, кто попытается дотронуться до нее, с остервенением голодного тигра, и нет еще такого лакомства, что могло бы совратить его аппетит или хоть на мгновение отвлечь от поручения. Не существует на свете посыльного более надежного и верного.
– Я полагаю, вы отправили его к своему другу, хозяину Лео? – спросила я.
– Да. Он пошел… к Гелиобасу.
Теперь это имя не пробудило во мне ни удивления, ни даже любопытства. Оно звучало знакомо, по-родному. Мой взгляд рассеянно блуждал по раскинувшемуся за окном саду, среди прекрасных бутонов, что склонялись ко мне, словно маленькие головки эльфов в разноцветных колпаках. Я промолчала. Я чувствовала на себе проницательный взгляд Челлини. Чуть погодя он продолжил:
– Поведать вам все сейчас, мадемуазель?
Я резко обернулась к нему:
– Будьте добры.
– Могу задать вам один вопрос?
– Разумеется.
– Где и при каких обстоятельствах вы услышали имя Гелиобаса?
Я посмотрела на него в нерешительности.
– Во сне, синьор, как бы странно это ни звучало, а точнее, в трех снах. Я расскажу вам о них.
И я описала посетившие меня видения, стараясь не упустить ни единой детали, потому что помнила все с удивительной точностью.
Художник слушал меня внимательно и серьезно. Когда я закончила, он сказал:
– Эликсир подействовал сильнее, чем я предполагал. Вы оказались чувствительнее, чем я надеялся. Не утомляйте себя разговорами, мадемуазель. С вашего позволения я сяду напротив и расскажу вам свою историю. А потом вы должны решить, примете ли метод лечения, которому я обязан жизнью и даже более того – разумом.
Он развернул свое кресло ко мне, сел напротив. Несколько минут мы хранили молчание. Меня невероятно тронуло любопытство и сочувствие, мелькнувшие на его серьезном и сосредоточенном лице. Несмотря на то что я чувствовала себя все более уставшей и вялой и понимала, что постепенно погружаюсь в прежнюю Пучину Отчаянья, глубоко в душе я все же ощущала невероятную заинтересованность в том, что он собирался поведать, а потому принуждала себя ловить каждое произнесенное им слово. Челлини начал рассказ тихим, спокойным голосом.
– Вы, должно быть, знаете, мадемуазель, что те, кто использует искусство как средство для заработка, начинают жить совершенно убогой жизнью – словно отягощенные гонкой за состоянием. В покупках и продажах, в занятиях импортом или экспортом для достижения необходимой доли успеха нужны лишь хорошие навыки в вычислениях и достаточное количество здравого смысла. Для занятий более тонкими материями, результатами которых становятся скульптуры, картины, музыка и поэзия, требования предъявляются к воображению, эмоциям и общей духовной восприимчивости человека. Напрягаются самые нежные клетки мозга, в полную боеготовность приводятся все мыслительные механизмы, с каждым днем и часом натура ваша настраивается более тонко, она обнажена и ранима к любому чувственному опыту. Разумеется, среди так называемых творческих личностей есть много обычных жуликов, что получили весьма поверхностное образование в одном или двух видах искусства и машут лениво кистью, беспечно плещутся в глубоких водах литературы или, умыкнув несколько четвертей и восьмушек у других композиторов, небрежно кидают их в одну кучу и называют «оригинальным произведением». Среди таких находятся «эксперты» в живописи и скульптуре, что выставляют для всеобщего восхищения труды творческих рабов как свои собственные, газетные писаки, «сметливые» молодые журналисты и критики с передовиц, малодушные пианисты или виолончелисты, протестующие против любых новшеств и предпочитающие топтаться в безэмоциональной холодно-каноничной манере, которую с удовольствием именуют «классикой», – такие люди существуют и будут существовать, пока добро и зло остаются главными противоборствующими силами этого мира. Они – тля на побегах искусства. А я называю творческими личностями тех мужчин и женщин, что день и ночь трудятся, чтобы хотя бы вскользь дотронуться до совершенства, и не бывают довольны даже самыми лучшими своими попытками. Я был среди них несколько лет назад и до сих пор придерживаюсь того же мнения, только разница между мною прошлым и настоящим в том, что тогда я слепо и отчаянно мучился, а теперь – терпеливо и спокойно тружусь, твердо зная: в назначенный час получу то, чего добиваюсь. Рисовать, мадемуазель, меня научил отец, человек добрый и простодушный, чьи миниатюрные пейзажи казались лоскутками, вырезанными из настоящего поля и леса, – настолько свежими и безупречными они были. Однако я не собирался довольствоваться тем простым путем, которым меня вели. Для удовлетворения моих амбиций одного правильного рисунка или одного правильно выбранного цвета было недостаточно. Меня ослепляла прелестная «Мадонна» Корреджо, я восхищался невероятной синевой ее одежд: они такого глубокого и насыщенного оттенка, что мне казалось, можно соскрести краску с холста до дыр и все равно не исчерпать до дна этот бездонный лазурный цвет. Я изучал теплые оттенки Тициана, я был готов парить в воздухе с чудесным «Ангелом Благовещения» – как со всеми этими мыслями в голове мог я довольствоваться обывательскими стремлениями современных художников? Меня всецело поглощал лишь один предмет – цвет. Я заметил, какими безжизненными и бледными казались сегодняшние краски по сравнению с красками старых мастеров, и глубоко задумался над возникшей передо мной проблемой. В чем секрет Корреджо, Фра Анджелико, Рафаэля? Я ставил разные эксперименты, купил самые дорогие и надежные пигменты. Все напрасно – ибо они были подделаны торговцами! Затем я получил пигменты в необработанном виде, сам измельчил и смешал их – результат оказался несколько лучше, но я обнаружил, что фальшивки присутствуют и в масле, и в лаках, и в растворителях – вообще во всем, что используют в работах художники. Я никуда не мог деться от порочных торговцев, что ради мизерного процента с каждой проданной вещи готовы попасть в ряды самых бесчестных людей этого бесчестного века.
Уверяю вас, мадемуазель: ни одна из картин, которые сейчас пишут для салонов Парижа и Лондона, не сможет провисеть и ста лет. Недавно я посетил музей Южного Кенсингтона, лондонский дворец искусств, и наблюдал там большую фреску сэра Фредерика Лейтона. Как мне сообщили, она только что была завершена. И уже начала выцветать! Через несколько лет от нее останутся лишь размытые очертания. Я сравнил ее состояние с набросками Рафаэля и великолепного Джорджоне, что находятся в том же здании: их цвета были настолько теплыми и яркими, словно работы создали совсем недавно. Лейтон не повинен в том, что его работы обречены исчезнуть с холстов так же бесследно, как если бы он никогда ничего не писал, – ему, как и любому другому художнику девятнадцатого столетия, просто крайне не повезло, что великий институт свободной торговли привел к тому, что все страны и классы с позором стремятся как можно быстрее вытеснить соперников из истории. Однако я уже утомил вас, мадемуазель, простите меня! Возвращаюсь к собственной истории. Как я уже говорил, я не мог думать ни о чем, кроме одного-единственного предмета – цвета: мысли о нем преследовали меня непрестанно. В ночных видениях я наблюдал изысканные формы и лица, которые не терпелось перенести на холст, и все же у меня никогда не выходило. Казалось, моя рука потеряла всякий навык. Примерно в то же время умер отец, и я, не имея других родственников на всем белом свете и не привязанный к дому, жил в полном одиночестве и все чаще и чаще терзал разум вопросом, который сбивал меня с толку и приводил в смятение. Я стал капризным и раздражительным, избегал любого общения и, наконец, перестал даже спать. Затем наступило страшное время лихорадочного волнения, нервного истощения и отчаяния. Иногда я молча сидел, поглощенный мыслями, при виде людей я вскакивал и часами быстро шагал в неизвестном направлении, надеясь унять дикое беспокойство. Тогда я жил в Риме, в мастерской, принадлежавшей отцу. Однажды вечером – как хорошо я все это помню! – со мной случился один из тех яростных приступов, которые не давали мне ни отдыхать, ни думать, ни спать, так что я, как обычно, поспешил на очередную долгую и бесцельную прогулку. У открытой двери парадного входа стояла тучная и добродушная хозяйка дома со своей младшей дочерью, Пиппой, схватившейся за ее юбку. При моем появлении женщина вскрикнула, отшатнулась и, подхватив девочку на руки, быстро перекрестилась. Ошарашенный, я прервал внезапный поход и сказал со всем спокойствием, на которое только был способен: «И что же это значит? Думаете, я могу вас сглазить?»
Кудрявая Пиппа тянула ко мне ручки – я часто баловал малышку, давал ей сладости и игрушки, – только мать удержала ее, сдавленно вскрикнув и пробормотав: «Пресвятая Дева Мария! Пиппа не должна его трогать, он безумен».
«Безумен?» – Я посмотрел на женщину и ее дитя с презрительным изумлением. Затем, не говоря больше ни слова, развернулся и быстро ушел дальше по улице, скрываясь от их взглядов. «Безумный»! Неужто я действительно лишился рассудка? Не в этом ли страшная причина моих бессонных ночей, беспокойных мыслей и странной тревожности? Я яростно вышагивал, не разбирая дороги, пока внезапно не очутился в пустоши на окраине деревни. Надо мной сиял молодой месяц, похожий на тонкий серп, что вонзился в небо, чтобы собрать обильный урожай звезд. Я в нерешительности остановился. Повсюду стояла полная тишина. Все тело вдруг ослабло, голова закружилась, перед глазами плясали странные вспышки света, конечности задрожали, словно у дряхлого старика. Я присел на камень, чтоб отдохнуть и попытаться привести спутанные мысли в некое подобие порядка. «Безумный»! Я сжал разболевшуюся голову руками, стал размышлять о маячащей передо мной жуткой перспективе и, как говорил бедный король Лир, молился про себя: «Только не дай мне сойти с ума, не дай мне сойти с ума, Господи!»
Молитва! Хотя была и другая мысль. Как же я мог молиться? Ведь я был скептиком. Отец взращивал во мне самые свободные материалистические взгляды, он сам, будучи последователем Вольтера, измерял Божественность собственными мерками, как хотелось ему самому. Он был хорошим человеком и умер в совершенном спокойствии и абсолютной уверенности, что состоит только из праха, в который и собирался вернуться. Отец ни капли не верил ни во что, кроме Универсального закона неизбежности, как он сам его называл. Может, именно поэтому всем его картинам не хватало одухотворенности. Я принимал его теории, не особенно задумываясь, и мне удавалось жить вполне прилично без каких-либо религиозных верований. Однако теперь – теперь, когда передо мной восставал ужасный призрак безумия, – крепкие нервы не выдержали. Я пытался, я страстно хотел молиться. Но кому? Чему? Универсальному закону неизбежности? Уж он точно не мог ни услышать человеческих просьб, ни ответить на них. Я размышлял над этим угрюмо и ожесточенно. Кто еще верит в этот Закон неизбежности? Что за жестокий Закон вынуждает нас рождаться, жить, страдать и умирать без вознаграждения или причины? Почему вся наша Вселенная обязательно должна представлять собой непрерывно вращающееся Колесо пыток? Тут я почувствовал новый порыв. Я соскочил с камня, на котором ранее распростерся. Дрожь унялась. Мною овладело странное ощущение бунтарского веселья, да настолько сильное, что я громко расхохотался. И как расхохотался! Сам с содроганием отшатнулся от этого звука, словно от удара. Я услышал смех безумца! Сомнений больше не было – я решился. Исполню мрачную волю Закона неизбежности. Если мое рождение было вызвано Неизбежностью, значит, именно ею будет обоснована и моя смерть. Неизбежность не могла заставить меня жить против воли. Вечное ничто лучше безумия. Медленно и уверенно я вынул из жилета острый кинжал из миланской стали, что всегда носил при себе как средство самообороны, достал его из ножен и посмотрел на тонкое лезвие, холодно сверкавшее в лучах бледной луны. Радостно поцеловал его – он станет моим последним лекарством! Поднял вверх, крепко сжав пальцами, – еще мгновение, и он впился бы глубоко в сердце, но тут кто-то с силой сдавил запястье и чья-то могучая рука, поборов мою, выбила кинжал у меня из рук. В ярости от того, что мои отчаянные намерения были сорваны, я отшатнулся и зло уставился на спасителя. Рядом стоял высокий мужчина в темном пальто, отороченном мехом: он походил на богатого англичанина или американца, путешествующего ради удовольствия. Его черты лица оказались правильными и властными, а когда он хладнокровно встретил мой обиженный взгляд, я заметил в глазах незнакомца легкое пренебрежение. Голос звучал мелодично и раскатисто, однако в нем слышалось откровенное презрение: «Значит, вам опостылела жизнь, молодой человек? Тем больше причин продолжать жить. Умереть может каждый. У убийцы хватает духу глумиться над своим палачом. Сделать последний вздох совсем несложно – тут легко справится ребенок или воин. Один укол куда менее мучительный, чем зубная боль, – и все кончено. Ничего героического в подобном поступке нет, уверяю вас! Это так же обыденно, как лечь спать, даже банально. Жизнь, если позволите, – вот в чем героизм, а смерть – просто прекращение всех дел. А уходить со сцены быстро и по-хамски, до того как суфлер подаст знак, всегда, мягко говоря, некрасиво. Доиграйте роль, какой бы плохой ни была пьеса. Что вы на это скажете?»
Он поигрывал кинжалом, уравновешивая его на одном пальце, будто нож для бумаги, и улыбался так открыто и ласково, что устоять перед ним было невозможно. Я подошел и протянул ему руку.
«Кем бы вы ни были, – сказал я, – это слова настоящего мужчины. Однако вы не ведаете причин, побудивших меня…» И моя речь была прервана судорожным рыданием.
Мужчина сердечно пожал протянутую ему руку и все так же серьезно ответил: «Не бывает причины, мой друг, которая вынуждает нас насильственно уйти из жизни, если только не безумие или трусость».
«А что, если я безумен?» – спросил я пылко.
Он внимательно осмотрел меня и, слегка касаясь пальцами моего запястья, прощупал пульс.
«Чепуха, дорогой сэр! – сказал он. – Вы не безумнее меня. Немного истощены и взволнованы – признаю́. Вас терзает какое-то внутреннее беспокойство. Вы должны обо всем мне рассказать. Я даже не сомневаюсь, что смогу излечить вас всего за несколько дней».
«Излечить меня? – Я посмотрел на него с изумлением и сомнением. – Вы врач?»
Он рассмеялся: «Нет! Мне бы не хотелось принадлежать к этой профессии. Однако в некоторых случаях я прописываю лекарства и даю советы. Я просто действующее вещество – не врач. Впрочем, к чему нам стоять здесь, в унылом месте, что наверняка населено призраками героев былых лет? Идемте со мной. Я направляюсь в отель «Костанца», там мы сможем поговорить. Что же касается этой красивой игрушки, позвольте ее вернуть. Больше она не станет выполнять такую неприятную миссию, как убийство собственного владельца».
С легким поклоном он вернул мне кинжал. Я тут же вложил его в ножны, ощущая себя обиженным ребенком. За мной наблюдал взгляд ясных голубых глаз с насмешливыми искорками.
«Не изволите ли вы, синьор, назвать мне свое имя?» – спросил я, когда мы свернули из деревни в сторону города.
«С большим удовольствием. Меня зовут Гелиобас. Странное имя? О, вовсе нет! Оно халдейское. Моя мать, такая же прекрасная восточная дева, как Мадонна Мурильо, и набожная, словно святая Тереза, нарекла меня еще одним именем – христианского святого Казимира, но Гелиобас pur et simple13 подходит вашему покорному слуге больше, и именно под ним все меня знают».
«Вы халдей?» – спросил я.
«Именно так. Я происхожу напрямую от одного из тех «мудрецов с Востока» (а их, кстати, было больше трех, и не все они были царями), которые, бодрствуя, заметили появившуюся при рождении Христа звезду раньше, чем остальные обитатели мира успели протереть сонные глаза. Халдеи с самых незапамятных времен отличались наблюдательностью. В обмен на мое имя вы назовете свое?»
Я с готовностью сообщил ему имя, и дальше мы пошли вместе. Я чувствовал себя на удивление спокойным и повеселевшим – таким же безмятежным, мадемуазель, как чувствуете вы себя, находясь в моем обществе, я это вижу.
Тут Челлини прервался и посмотрел на меня, словно предвосхищая вопрос. Я предпочла молчать, пока не выслушаю рассказ полностью. Поэтому он продолжил:
– Мы добрались до отеля «Костанца», где Гелиобаса, очевидно, хорошо знали. Официанты величали его графом, хотя он ничего не говорил мне относительно этого титула. У него был превосходный набор комнат, обставленных всеми современными предметами роскоши, а как только мы вошли, подали легкий ужин. Он пригласил меня присоединиться к нему, и в течение получаса я рассказал всю свою историю – об амбициях, о стремлении к совершенству цвета, о разочаровании, унынии, отчаянии и, наконец, о диком страхе перед безумием, который заставил меня покуситься на собственную жизнь. Он слушал терпеливо, не отвлекаясь. Когда я закончил, новый знакомец положил руку мне на плечо и мягко сказал: «Молодой человек, простите мне мои слова, и все-таки до сих пор в своей карьере вы лишь бездеятельно, бесполезно и эгоистично «лезли на рожон», как говорит святой Павел. Вы ставите перед собой благородную задачу – открыть секрет цвета, известный старым мастерам, – и поскольку сталкиваетесь с мелкими трудностями из-за подделки художественных материалов в современной торговле, то считаете, что шансов у вас нет, что все потеряно. Вздор! Думаете, несколько нечестных торговцев способны победить саму Природу? Она и по сей день может в изобилии дать вам те же чистые цвета, что некогда дарила Рафаэлю и Тициану, только не в спешке – не тогда, когда вы грубо хватаетесь за ее подарки в настроении, не терпящем препятствий и задержек. «Ohne hast, ohne rast»14 – вот девиз звезд. Запомните его хорошенько. Вы навредили здоровью своего тела бесполезной раздражительностью и сварливым недовольством, и прежде всего разбираться нам следует именно с этим. Через неделю я сделаю из вас человека здравомыслящего и здорового, а потом научу, как получить те цвета, которых вы так ищете. Да! – добавил он, улыбаясь. – Даже тот самый синий Корреджо».
От радости и благодарности я не мог произнести ни слова – я схватил друга и спасителя за руку. Некоторое время мы так и стояли. Наконец Гелиобас выпрямился во весь свой исполинский рост и устремил на меня спокойные глаза. Мое тело пронзил странный трепет, я все еще держал его за руку.
«Отдыхайте! – сказал он медленно и с ударением. – Тело уставшее и истощенное, прими полный покой! Дух мятежный и глубоко раненный, освободись из тесной темницы! Силой, которую я признаю в себе, в вас и во всех творениях, я приказываю вам: отдыхайте!»
Очарованный, покоренный его действиями, я наблюдал за ним и хотел было заговорить, только язык отказывался выполнять свои функции, голова закружилась, глаза закрылись, ноги подкосились, и я упал без чувств.
Челлини снова умолк и посмотрел на меня. Слушая внимательно каждое слово, я не стала вмешиваться в повествование. Он продолжил рассказ:
– Когда я говорю «без чувств», мадемуазель, то, разумеется, имею в виду свое тело. Но я сам, то есть мой дух, бодрствовал: я жил, двигался, слышал и видел. Однако об этом опыте мне говорить запрещено. Вернувшись к смертной оболочке, я обнаружил себя лежащим на диване в той же комнате, где ужинал с Гелиобасом, а сам Гелиобас сидел рядом со мной и читал. Был уже полдень. Я ощущал восхитительное спокойствие и юношескую бодрость и, не говоря ни слова, вскочил с дивана и коснулся руки спасителя. Тот взглянул на меня.
«Ну что же?» – спросил он, улыбаясь глазами.
Я схватил его руку и пылко прижал ее к своим губам.
«Вы мой лучший друг! – воскликнул я. – Каких чудес я только ни видел, каких только истин ни познал, каких тайн!»
«Об этом ни слова, – произнес Гелиобас. – О них нельзя говорить так просто. И ответы на вопросы, которые вы, естественно, жаждете задать, вы получите лишь в свое время. Случившееся с вами не чудо – на вас просто воздействовали научными средствами. Правда, ваше лечение не окончено. Несколько дней, проведенных со мной, восстановят вас полностью. Вы согласны остаться в моей компании еще ненадолго?»
Я с радостью и великой благодарностью принял его предложение. Следующие десять дней мы провели вместе. Гелиобас давал мне определенные лекарства наружного и внутреннего применения, и они имели чудесный эффект в обновлении и укреплении организма. По истечении этого времени я был полон сил – здравомыслящий и здоровый, как и обещал мой спаситель: разум был свеж и готов к работе, в голове теснилось множество новых великих идей в области искусства. Благодаря Гелиобасу я приобрел два бесценных подарка: полное понимание истины в религии и тайны человеческой судьбы, а еще я завоевал настоящую любовь!
Тут Челлини умолк, и глаза его засияли от восторга. После паузы он продолжил:
– Да, мадемуазель, я обнаружил, что меня любит, наблюдает за мной и ведет за собой существо настолько божественно прекрасное и верное, что язык смертных не в состоянии описать такое совершенство! – Он снова помолчал и продолжил: – Когда Гелиобас признал меня снова совершенно здоровым душой и телом, он показал свое умение смешивать цвета. С этого часа все мои работы стали успешны. Вы знаете, что мои картины с большой охотой раскупают, стоит их только закончить, и что цвет, которого я на них достигаю, для всего мира является загадкой сродни магии. И все же даже среди самых скромных художников нет ни одного, кто при желании не смог бы использовать те же средства, что и я, и получить почти нетленные оттенки, что все еще сияют с полотен Рафаэля. Впрочем, говорить об этом сейчас нет нужды. Я рассказал вам свою историю, мадемуазель, и теперь предстоит применить ее смысл к вам. Вы внимательно меня слушаете?
– Да, – ответила я: действительно, мой интерес в этот момент был так силен, что я почти слышала биение своего обмирающего сердца. Челлини продолжил:
– Как вы знаете, мадемуазель, электричество – настоящий клад для нашего времени. Нет конца чудесам, которые оно способно вершить. Одно из важнейших применений этого великого открытия сейчас по невежеству большей части общества высмеивается: я имею в виду использование человеческого электричества, той силы, которая есть в каждом из нас, – и в вас, и во мне, и в еще большей степени в Гелиобасе. Он развил электричество в своем организме до такой степени, что простое прикосновение его руки, самый мимолетный взгляд несут в себе исцеление или же обратное, в зависимости от того, как он решает проявить силу, хотя смею утверждать, что он всегда несет только положительный эффект, потому как сам преисполнен доброты, сочувствия и жалости ко всему человечеству. Его влияние настолько велико, что он, не говоря ни слова, одним лишь присутствием может передавать мысли другим людям, даже совершенно незнакомым, и побуждать их задумываться над определенными действиями или же осуществлять их в соответствии с его планами. Не верите? Мадемуазель, эта сила есть в каждом из нас, только мы не развиваем ее, потому что наши знания еще слишком несовершенны. Я пока мало продвинулся в обуздании собственной электрической силы, но, чтобы доказать истинность своих слов, тоже повлиял на вас. Вы не можете этого отрицать. Подчиняясь моей мысли, устремленной к вам, вы ясно увидели мою картину, которая на самом деле была занавешена. Силой моей мысли вы правильно ответили на вопрос, который я задал вам по поводу той же картины. Силой моего желания вы передали мне, сами того не осознавая, послание от того, кого я люблю, сказав: «Dieu vous garde!» Вы помните? А эликсир, который я дал вам – одно из простейших средств, открытых Гелиобасом, – заставил вас узнать то, что хотел сказать вам он сам – его имя.
– Он! – воскликнула я. – Но как? Ведь он даже не знает обо мне… Относительно меня у него не может быть никаких намерений!
– Мадемуазель, – серьезно ответил Челлини, – если вспомните последнее из трех ваших видений, то у вас не останется сомнений, что у него есть намерения по отношению к вам. Как я уже говорил, он практик электричества. Под этим подразумевается очень многое. Он подсознательно знает, нужен ли он кому-то сейчас или будет нужен когда-то в дальнейшем. Позвольте мне договорить то, что я должен сказать. Вы больны, мадемуазель, больны из-за переутомления. Вы импровизатор, а значит, гений музыки, вы свободны от правил и совершенно не поняты миром. Вы развиваете свои способности, невзирая на цену, вы страдаете, и страдания будут только сильнее. По мере того как растут ваши способности в музыке, здоровье слабеет. Поезжайте к Гелиобасу: он сделает для вас то же, что сделал однажды для меня. Вы же не будете колебаться? Ни о каком выборе нет и речи, если на одной чаше весов годы слабости и немощи, а на второй – крепкое здоровье, обретенное менее чем за две недели.
Я медленно поднялась со своего места.
– Где этот Гелиобас? – спросила я. – В Париже?
– Да, в Париже. Если решите отправиться туда, прислушайтесь к моему совету и поезжайте одна. Вы легко найдете оправдание для друзей. Я дам адрес женского пансиона, где вам будет хорошо, как дома. Вы позволите?
– Прошу вас, – ответила я.
Он быстро написал карандашом на одной из своих карточек: «МАДАМ ДЕНИЗ, авеню дю Миди, 36, Париж» – и передал ее мне. Я замерла на месте и глубоко задумалась: рассказ Челлини произвел на меня сильное впечатление, даже поразил, однако меня никоим образом не пугала мысль отдать себя в руки практика электричества, как сам Гелиобас себя называл. Я знала множество случаев излечения серьезных болезней с помощью электричества – электрические ванны и электроприборы всех видов уже нашли широкое применение, – я не видела причин удивляться факту существования человека, который развил в себе электрическую силу до такой степени, что смог использовать ее как целительную. Мне казалось, в этом, действительно, нет ничего необыкновенного. Единственной деталью повествования Челлини, которой я не поверила, было якобы испытанное им отделение души от тела: я приписала это чрезмерному возбуждению его воображения во время первой беседы с Гелиобасом. И все же подобную мысль я удержала при себе. Я в любом случае решилась ехать в Париж. Моим самым заветным желанием было совершенное здоровье, и я не собиралась привередничать в средствах для получения бесценного дара. Челлини молча наблюдал, как я безмолвно размышляю.
– Вы поедете? – наконец спросил он.
– Да, поеду, – ответила я. – Может, вы передадите со мной письмо к вашему другу?
– Лео уже унес послание со всеми необходимыми объяснениями, – сказал Челлини, улыбнувшись. – Я знал, что вы поедете. Гелиобас ждет вас послезавтра. Он живет в отеле «Марс» на Елисейских Полях. Вы не сердитесь на меня, мадемуазель? Я не мог не знать, что вы уедете.
Я слабо улыбнулась.
– Опять проделки вашего электричества, я полагаю? Нет, не сержусь. Да и к чему бы? Большое вам спасибо, синьор, буду вам благодарна, если Гелиобас действительно меня вылечит.
– О, в этом нет никаких сомнений, – ответил Челлини. – Вы можете тешить себя этой надеждой сколько хотите, мадемуазель, потому что она не может быть обманута. Прежде чем уйти, вы же взглянете на ваш портрет, не так ли? – И, подойдя к мольберту, он снял с него покрывало.
Я была невероятно удивлена, ведь думала, что он сделал лишь наброски черт лица, тогда как на самом деле полотно было почти готово. Я смотрела на него, словно на портрет незнакомки. Это было задумчивое, печальное и жалостливое лицо, на золотистых волосах покоился венок из ландышей.