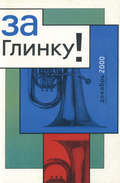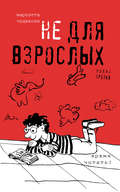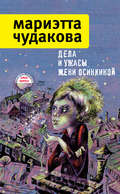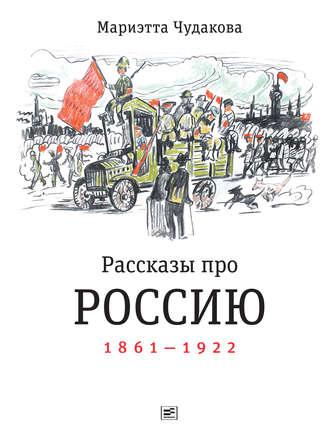
Мариэтта Чудакова
Рассказы про Россию. 1861—1922
23. Начало волнений

В середине февраля 1917 года в Петрограде начались перебои с хлебом. Позже выяснилось: недостатка хлеба не было – его всего лишь вовремя не подвезли!
Но люди-то этого не знали! Возникли длинные очереди, к которым граждане Российской империи, в отличие от будущих «советских» людей, совсем не привыкли… И на фоне общей усталости от войны эти в общем-то безобидные очереди послужили сигналом: начались забастовки.
К волнениям горожан присоединились запасные полки, расквартированные в Петрограде. Эти солдаты уже привыкли к безопасности тыловой жизни и совсем не горели желанием идти на фронт, под пули: патриотический угар давно прошел.
И 27 февраля 1917 года[5] вечером командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов просит Верховного главнокомандующего генерала Алексеева «доложить Его Императорскому Величеству, что исполнить повеление о восстановлении порядка в городе не мог (курсив мой. – М. Ч.)».
Генерал сообщал в отчаянии, что многие воинские части «побратались с мятежниками и обратили свое оружие против верных Его Величеству войск…».
24. Вот так начинаются революции и рушатся империи…

Генералы, понимавшие, что не удастся успешно продолжать войну при таком состоянии страны, просили царя хотя бы сформировать новое правительство, поскольку действующему страна уже не доверяла.
Но Николай II явно не понимал серьезности ситуации. Он верил, что русский народ его любит и что все будет хорошо.
…В это время, а именно 27 февраля 1917 года, образовался первый в России Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. И вечером этого дня открылось его первое заседание.
Именно этот Совет и его деятельность до конца 1917 года определил, собственно, именование на много лет установившегося в России режима – «советская» власть. Хотя сути режима это совсем не отвечало: власти Советов, как увидим дальше, в стране, родившейся после Октября, никогда не было – потому я и беру слово «советская» в кавычки.
1 марта 1917 года Совет издал «Приказ № 1».
Именно с него и начался развал армии в воюющей стране.
Да, приказ этот имел поистине историческое значение. Он стал одним из рычагов, повернувших историю России.
Писавшие этот приказ хотели демократизировать армию. Для этого первым же пунктом предлагалось «во всех ротах, батальонах, полках… немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей». С ними офицеры должны были теперь согласовывать все свои приказы. Комитеты становились теперь главнее любого военного командования – оно больше не могло командовать собственной армией, ему надо было оглядываться всякий раз на комитеты, избранные нижними чинами…

Вряд ли в таких обстоятельствах можно было с успехом воевать.
Но и этого мало:
«Всякого рода оружие, как то: винтовки, пулеметы… должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям» (курсив везде мой. – М. Ч.).
Не выдавать оружие офицерам! Во время войны!
Тут уже нечего прибавить.
25. Демократизация российской армии

Инициаторами демократизации армии были агитаторы-социалисты, в их числе большевики. Они вообще считали, что совершенно незачем воевать, защищая буржуазную российскую власть, а надо ее свергать.

Теперь солдаты, если они не в строю, уже не должны были вставать перед офицерами и отдавать им честь.
Значит, представим себе картинку демократизированной армии.
Сидят солдаты. Входит генерал; солдаты продолжают сидеть развалясь…
Такое вообще-то вполне возможно. Только это вольно себя ведущее сборище уже не надо называть армией.
«…Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах».
Везде и прочли.
Всего через два-три дня после чтения солдаты стали поднимать на штыки своих офицеров, а матросы – сбрасывать за борт адмиралов.
Таким путем началась в России так называемая Февральская революция.
26. Последние действия царя

Ночью 28 февраля 1917 года Николай II покинул свою Ставку в Могилеве, откуда руководил действиями армии. Он двинулся поездом в Царское Село под Петроградом – к больным корью детям и любимой и любящей жене.
Царь был очень хорошим семьянином. Но это, увы, не главная черта для властителя громадной империи.
И совсем недаром браки монархов заключались обычно не по любви, а по дипломатическим соображениям: монарх должен был в первую очередь думать не о семье, не о любимой жене, а о своей стране и ее интересах – на то он и царь!

Многие, например, считают, что царю в те роковые, решающие дни не надо было покидать Ставку: там рядом с ним были преданные ему воинские части. А вокруг уже начинался хаос. И доехать к семье царю так и не удалось. Железнодорожный путь был перекрыт мятежниками.
Начальник штаба генерал Алексеев опросил высший командный состав – что они думают о дальнейших действиях? Весь генералитет, а также все до одного великие князья (то есть члены императорского дома, носившие фамилию Романов) высказались за отречение императора в пользу наследника при регентстве (то есть всяческом содействии) младшего брата царя – Михаила.
27. Отречение царя

Остановленный восставшими воинскими частями на станции Дно (говорящее название!), государь под напором преданных ему монархистов подписал манифест об отречении.
Монархисты были уверены, что другого выхода нет, а отречение успокоит людей. Вот в этом они жестоко заблуждались.
Единственным наследником Николая II – по законам российской монархии – был четырнадцатилетний цесаревич Алексей. Он с рождения страдал неизлечимой болезнью – гемофилией (от любого пореза – неостановимое кровотечение).
Царь не захотел расставаться с больным ребенком (а это расставание обусловливал сан императора). Поэтому он решил передать российский престол брату Михаилу.
Поясним – при наличии законного наследника никто по российским законам на это вообще не имел права! Мало того – и русский царь по этим же законам не имел права отрекаться. Но революции, как правило, отбрасывают в сторону законы.

28. Отречение Михаила

Великий князь Михаил, прочитав манифест царя об отречении и передаче российского престола ему, Михаилу, задал единственный вопрос председателю Думы Родзянко, может ли тот гарантировать ему безопасность при вступлении на престол в такие дни?
Обоим было ясно, что ситуация в стране накаляется ежечасно. И великий князь услышал ответ, соответствующий тогдашней российской обстановке: «Единственно, что я вам могу гарантировать, – это умереть вместе с вами».
После серьезного размышления (речь шла о судьбе России!) брат царя объявил манифестом от 3 марта, что отказывается от престола – до того момента, когда Учредительное собрание определит образ правления в России: будет ли она снова монархией, республикой или чем-то еще.

Так 3 марта 1917 года именно отречением Михаила, не решившегося принять российский престол в гибельной ситуации (что, увы, отсрочило его собственную гибель, как увидим, только на полтора года), кончилась российская монархия. Еще несколько дней назад об этом никто не мог и помыслить!
Власть в России перешла к наскоро созданному Временному правительству.
29. Ленин узнает про российскую революцию, которой он нисколько не ожидал

И вот тут-то и начинается самое главное.
Ленин с 1900 года жил в Европе: ненавистный ему царский режим беспрепятственно выпустил за границу человека, только что отбывшего ссылку в Сибири, человека, старший брат которого готовил убийство царя и был за это казнен. В той стране, которую Ленин очень скоро начнет строить, о таком гуманном поведении власти не могло быть и речи! (Каждый, кто успел пожить при «советской» власти, вам это подтвердит.)

Итак, Ленин семнадцать лет не видел России. Только в течение нескольких революционных месяцев 1905–1907 годов он тайно провел в Петрограде (наездами из Финляндии) сколько-то дней.
И он нисколько не ожидал там революционного взрыва после поражения революции 1905 года!
Еще в январе 1917-го в одном из выступлений он уверенно сказал, что не доживет до новой революции. Тут политическая интуиция его сильно подвела. Но про это сегодняшние поклонники Ленина (не дающие похоронить его труп) обычно не упоминают, продолжая восхищаться его мудростью и дальновидностью.
Ленин с изумлением и восторгом читает в европейских газетах про революцию в России и про конец ненавистной ему империи!
…Поясню – именно после отказа от престола великого князя Михаила Россия перестала быть монархией, империей. Она зависла в положении страны с неопределенным государственным устройством, где вместо царя пока Временное правительство.
30. Начало действий

И Ленин сразу же начинает действовать – в своем, разумеется, стиле.
Еще решительно ничего не зная про политику только что образованного правительства (а может, оно вполне прилично себя поведет?), он 6 марта отбивает из Европы телеграмму в Петроград с наставлениями своим единомышленникам:
«Полное недоверие, никакой поддержки новому правительству. Вооружение пролетариата – единственная гарантия… Никакого сближения с другими партиями».
Да, это ленинский стиль.
Только предельное обострение! Единственное средство улучшения дел в стране – это революция, это оружие в руках одних людей, нацеленное на других, это трупы и трупы!
Что-что, но трупы людей Ленина ни тогда, ни потом не смущали. Точнее, он об этом просто не умел думать, он думал только о достижении своей цели, а средства мало его занимали. Бывают такие люди…

Историк А. Б. Зубов точно формулирует:
«Эти три фразы (см. выше – «Полное недоверие…» и т. д.) и поставили задачу: свержение Временного правительства путем вооруженного восстания и установление однопартийной диктатуры».
Ну да, однопартийной – ведь Ленин запрещает сближение с любыми партиями!
Свою задачу Ленину удалось решить через восемь месяцев.
И в течение семидесяти с лишним лет власть в нашей стране была в руках одной партии (а вовсе не в руках каких-либо избранных гражданами Советов: потому-то «советская власть», повторим, – выражение совершенно фальшивое и годится только для употребления в кавычках).
В XX веке такого – самоназначенной однопартийности – уже не было ни в одной из цивилизованных стран.
31. Ленин торопится в Россию

Теперь Ленин заспешил в Россию – хотел довести начавшуюся революцию до мировой. В том, что она вот-вот охватит весь мир, сомнений у него почему-то не было.
Как, прожив семнадцать лет в Европе – в Женеве и Лондоне, он не заметил, что ни Швейцария, ни Англия не настроены на мировую революцию, – эту тайну он унес с собой в могилу.
Так же, как и тайну того, как человек, совершивший столь огромную мыслительную ошибку, уже более ста лет остается для многих наших граждан великим мыслителем.
27 марта 1917 года 32 русских эмигранта-социалиста вместе с Лениным выехали из Цюриха (Швейцария). Вскоре они ехали уже по Германии, воюющей с Россией. Их беспрепятственно везде пропускали. Почему же? Да просто потому, что немцы знали – эти русские едут устраивать революцию в России. То есть ослаблять противника Германии в войне.

Поэтому я не верю нисколько и в то, что Ленин будто бы был немецким шпионом. Зачем немцам было тратить на него деньги и вербовать в шпионы, если его личные политические цели и так совпадали с их интересами?
На пароходе через Балтийское море социалисты прибыли в Финляндию (напомню – она еще была тогда частью России). Оттуда – на Финляндский вокзал в Петроград.
Петроградский Совет депутатов организовал встречу – с оркестром и военным караулом. Поднявшись на броневик (сколько раз впоследствии советские художники изображали его в этой позе!), Ленин произнес речь, которая многих ошеломила.
32. Ленин на броневике

Прежде всего он объявил, что мировая война – это начало гражданской войны по всей Европе (хотя российские-то солдаты как раз очень надеялись, что скоро войну прикончат и можно будет сменить ружья на плуг!).
И под конец своей, как обычно, очень энергичной речи Ленин провозгласил удивительную почти для всех слушателей здравицу:
«Да здравствует всемирная социалистическая революция!»
Это было нечто совершенно необычное. И главное – малопонятное для большинства слушателей. Но и не понявшим Ленин понравился энергией своей речи – редкая в России черта!
Стало ясно, что в Петрограде появился человек, который совсем не намерен кончать с остатками феодализма в России, то есть довершать буржуазную революцию, с которой Россия на века отстала от Англии и Франции. А намерен он делать совсем другое – социалистическую революцию…
А что это такое – этого никто толком даже и не знал, кроме профессиональных революционеров.
А Ленин – знал.
Причем делать это в России он замышлял с одной-единственной целью – начать этим мировую революцию…
Повторим: Ленин не допускал мысли, что мировая революция так и не начнется! Забегая вперед, попрошу сомневающихся в этих моих словах (а может, мудрый Ленин был все-таки прав?) подойти к карте мира и ткнуть пальцем в те страны, где хотя бы началась эта самая мировая революция. Даже если география не самый любимый ваш предмет, вы все-таки кое-что поймете насчет мировой революции.
Ленинский план оказался самой грандиозной авантюрой XX века.
Россия оплатила эту авантюру несусветной ценой.
33. Что такое авантюризм?

Авантюризм – это непросчитанные ходы или ошибочные расчеты, на основе которых предпринимаются серьезные действия, кончающиеся неудачей.
Ну например, мама спрашивает: – Где твои кроссовки? – Да они уже старые были, я их на помойку отнес. – Позволь, а в чем же ты ходить будешь?! – А мне бабушка новые купит! – Так ты с ней договорился? – Не-а! Но я и так знаю, что она купит! – Ну так я тебя разочарую! У бабушки как раз сейчас такая ситуация, что она ну никак не сможет тебе новые кроссовки купить!
Поняли теперь, что такое авантюра?

Ленин был абсолютно уверен, что революция сразу полыхнет по всему миру, стоит только совершить ее в России. Но для этого нужна не какая-нибудь уже хорошо известная мировой истории буржуазная революция, а именно никому неведомая социалистическая.
Повторю, почти никто, кроме самого Ленина и небольшой группы его товарищей по партии – профессиональных революционеров, упорно изучавших Маркса и Энгельса, – тогда и знать не знал, что это такое…
И вот, уверял других Ленин, как только полыхнет эта самая социалистическая, тогда для всех-всех-всех – ну кроме, конечно, буржуев и богатеев (оба эти просторечных слова ввел в русскую официальную речь именно Ленин) – начнется прекрасная жизнь.
34. Россия после Февраля

Месяцы с февраля до октября 1917 года историки считают временем наибольшей свободы в России.
Ни до, ни тем более позже 1917 года такой полной свободы слова, печати, митингов и шествий, а также свободы совести (то есть свободы исповедовать ту или иную веру или не исповедовать вовсе никакой) уже в России не было.
Такие свободы – вот это и есть демократия. Именно из них она и состоит.
«Россия в одночасье стала одной из самых демократических стран в мире, – пишут авторы книги “Развилки родной истории” (Карацуба И., Курукин И. и Соколов Н.). – Упразднены были полиция и корпус жандармов, отменены смертная казнь, все вероисповедные и национальные ограничения в имущественных правах и в выборе места проживания…»
О «месте проживания» – это про так называемую черту оседлости. Эта черта отделяла территории, где имели право жить евреи (главным образом – Украина и Белоруссия), от тех, где им жить было не положено. Напомню – кто еврей, а кто нет, в Российской империи определяли не по крови – не по национальности мамы и папы (как впоследствии делали нацисты, уничтожая евреев за эту кровь), а по вероисповеданию: евреями считали только иудеев. То есть исповедующих религию иудаизма, чуждую официальной религии Российской империи – православию. А чужда она была тем, что из двух книг, составляющих Библию, иудеи чтут Ветхий Завет наравне с христианами, но не признают Новый Завет, поскольку не верят в Иисуса Христа. Но любому умному человеку должно быть понятно, что это не причина, чтобы человеку нельзя было жить в Петербурге, Москве и вообще нигде, кроме западных областей России. Но – увы – именно так и было; потому множество молодых евреев становилось революционерами (огромные препятствия для иудеев были и при поступлении в университеты, а тяга к образованию в еврейских семьях была традиционной). Исключение делалось для купцов 1-й гильдии и тех, кто закончил университет, – они могли жить где хотели.
После Февраля 1917 года это ограничение на места проживания было отменено.
Была отменена цензура.
И кроме того, граждане России могли теперь свободно объединяться в общества и проводить любые собрания в любом месте, за исключением рельсовых путей…
Ликвидировался государственный контроль над православной церковью. То есть был распущен Святейший синод – правительственный орган (своего рода министерство), в течение двух столетий руководивший православной церковью (православие было в России официальной религией, потому церковь управлялась светской, то есть не церковной властью – она не была самостоятельной; главою церкви был император).

Любые собрания в любом месте
Возвращалось патриаршество, отмененное Петром Первым, – церковью вновь должен был руководить патриарх, а не правительственные органы – не чиновники. Патриарха собирались избирать в Успенском соборе в Кремле в конце лета 1917 года.
Но большевики, возглавляемые и вдохновляемые Лениным, ни в коей мере не считали все эти «буржуазные» свободы ценностью. Ленин в любой момент готов был их уничтожить ради гораздо большей, с его точки зрения, ценности – мировой революции. А революция – это насилие одних людей над другими, а насилие – это в первую очередь убийство безоружных вооруженными (в отличие от войны, где вооружены обе воюющие стороны).