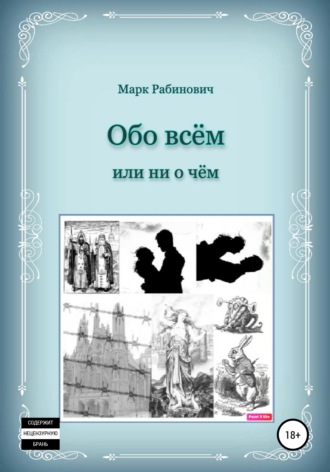
Марк Рабинович
Обо всем
Ася
Она продолжала думать о том коротком сообщении, той невозможной телеграмме, что пробила непробиваемую стену и попала к адресату с такой точностью, как будто ее доставил самый лучший в мире почтальон. Теперь она понимала, откуда Мишка знал, что ей нравится когда целуют ладошку, или когда осторожно тянут, один за другим, пальчики у нее на ногах. И еще многое, многое другое знал о ней ее Мишка, такое, что она и сама не знала о себе. Все же неправ был Рыхлый и колдовской информационный пакет был длиннее восемнадцати байтов, содержа в себе еще что-то помимо шести заветных слов. Она хотела предупредить, что его формулы могут быть неверны, но постеснялась рассказывать про ладошку и пальчики. Надо надеяться, думала она, что он все поймет сам, когда будет искать Л-энергию для своих новых аппаратов…
–– И вот еще что, Соня… – осторожно начал Жилистый, даже не заметив как он ее назвал, доставая пачку разноцветных бумаг. Были там и голубые и розовые листочки и было на них что-то напечатано где крупным, а где и мелким шрифтом. Запинаясь на каждом слове и не глядя ей в глаза Жилистый объяснил, что все это надо подписать, причем обязательно на каждом листе и еще в нескольких местах, которые он пометил галочками. Текст на листочках был составлен на том невероятно запутанном диалекте иврита, которым в полной степени владеют только адвокаты. да и то не все. Те немногие фразы, которые она смогла понять. обещали невнятные кары за разглашение чего-то сродни "торсионным полям" Рыхлого. Ася подумала что Жилистый все же оказался "товарищем майором", но в его гуманной израильской версии, и начала подписывать. Она подписывала лист за листом уже не пытаясь прочесть напечатанное, а лицо Жилистого становилось все более брезгливым и жалким, как будто он презирал себя за то что вынужден был делать.
Внезапно Мишка пошевелился, но это не было обычное его шевеление, заканчивающиеся прочтением заветного адреса и заветного имени. Нет, это тяжело ворочался мужчина, просыпаясь после долгого, тяжелого и беспокойного сна. Тогда она, бросив разноцветные листки на пол, метнулась к кровати и увидела, что его левый глаз открыт. Правый глаз он открыть не смог и поэтому казалось что человек хитро щурится. Он посмотрел на нее незнакомым взглядом и тихо спросил:
–– Соня?
–– Да, это я – вырвалось у нее.
Кто этот человек, с ужасом думала она? И кто я? Вопросы, на которые не было ответа, судорожно копошились внутри и рвались наружу, грозя взорвать череп. Ей казалось, что сердце перестало биться, дыхание сперло, воздух не поступал в легкие и помутилось в глазах. Сейчас я умру, подумала она, и ей было все равно. Но тут человек на кровати закрыл левый глаз и приподнялся на локтях с закрытыми глазами, потом открыл оба глаза и с удивлением посмотрел на иглу в руке, на монитор и на приборы в углу. Затем он остановил взгляд на ней и, как ей показалось, бесконечно долго и пристально смотрел на нее. Жилистого и Рыхлого он не заметил. Наконец, в его глазах что-то промелькнуло, он моргнул два раза и снова спросил:
–– Аська?
Вот теперь его глаза были знакомыми мишкиными глазами. Ответить она не смогла, потому что слезы потоком вырвались наружу и она зарыдала, уткнувшись в его такую знакомую ладонь от которой пахло незнакомым лекарством. Потом он гладил ее по голове и говорил нежные слова, и ей стало так хорошо, что она зарыдала еще сильнее, на этот раз от счастья. А ведь раньше она и не подозревала. что плакать может быть так хорошо.
Спустя час или два, а может и спустя много, много часов она все еще сидела на стуле во все той же больничной палате. Жилистый возился со своими разноцветными листками, а Рыхлый что-то лихорадочно выстукивал на своем ноутбуке. Вроде бы они распрашивали ее все эти часы и, наверное, задавали многочисленные вопросы, но она не помнила ни их вопросы, ни свои ответы, потому что за занавеской снова спал ее Мишка, повернувшись на бок и сорвав с себя провода монитора. Прибегали врачи и медсестры, долго суетились, но Мишка открывал сонные глаза и заявив – "Я сплю" – снова начинал сопеть носом. Тогда от него отстали.
Теперь она наконец поняла, что означают загадочные слова – "перпендикулярное время". Именно сейчас она жила в нем, в этом странном времени, которое было ортогонально всему и всем: и толстому доктору, и симпатичной месестре, и дежурившим у подъезда больницы таксистам, и маме, и даже детям. В нем, в этом времени сейчас находилась лишь она да так знакомо храпящий мужчина за занавеской. Жилистого и Рыхлого тоже не было в ее времени, они это поняли и засуетились. Жилистый начал лихорадочно собирать голубые и розовые листки, а Рыхлый с треском захлопнул свой ноутбук. При этом они все время смотрели на нее. Очень странно смотрели на нее эти двое… Жилистый глядел выжидающе и даже робко, он больше не был похож на деревянного солдата, а лицо у него вдруг стало мягкое и рыхлое, как будто он взял его взаймы у своего напарника. Рыхлый, наоборот, смотрел спокойно и уверенно, как будто он решил уже все проблемы и вывел наконец свою заветную формулу. Потом они повернулись и ушли, причем Жилистый все время оглядывался, а Рыхлый ни разу не обернулся. Уходя вдаль по коридору они становились все меньше и меньше, пока их не проглотила дверь лифта. После их ухода, похожего на бегство, Ася прижалась лицом к холодному стеклу и долго следила за тем, как эти двое шли по автостоянке к своему серому "Хюндаю". Ей было хорошо видно как Жилистый внезапно остановился и начал рвать голубые и розовые листки. Он рвал их, и злые слезы текли по его некогда такому волевому, а теперь – растерянному лицу, а Рыхлый тихо смеялся. Отсмеявшись, он обнял Жилистого за плечи и повел к машине, потом заурчал мотор и они исчезли навсегда. На потрескавшемся асфальте остались розовые и голубые клочки и ветер подхватил их, закружил и разбросал по ветровым стеклам запаркованных "Тойот", "Хюндаев" и "Шкод". Там они и остались, подобные рекламным листкам, скупым гимном тому, перед чем бессильна самая точная аппаратура и что не в силах описать самые умные формулы.
Михаил
Озеро, даже очень большое – это далеко не море. Однако и тут бывают волны, порой более неприятные, чем в океане. Здесь волна ударяется о скалы и, отраженная, сталкивается с другой, набегающей волной, создавая бурлящую мешанину, способную укачать даже самого просоленного морехода. Инспектор не был опытным моряком и недолгий переход на катере от пристани в Рива-дель-Гарда вымотал его напрочь. Да и предстоящий осмотр изуродованных в аварии тел не сулил приятных ощущений. Но профи – всегда профи, невзирая на самочувствие и предпенсионный возраст, и он нарочито бодро спрыгнул с носа катера, разумеется потянув при этом ногу.
Все было как обычно: деловитые патрульные, хладнокровные и спокойные спасатели, бесполезные уже медики и зеваки, непонятно как оказавшиеся на бесплодном берегу – наверное сумасшедшие рыбаки. Недолгий осмотр и опрос свидетелей здесь внизу и наверху – на трассе, показал обычную картину то ли злоупотребления алкоголем, то ли внезапно возникших медицинских проблем. Ничего, вскрытие покажет. Смущал только полусгоревший заграничный паспорт непонятно какой страны. Вот этим ему и придется заняться, но и это не проблема в Европе, где давно уже смешались все национальности. Можно было закругляться, но что-то было не так, его смущало нечто необычное, ощущаемое где-то далеко, на самой границе подсознания. Внезапно он понял, что было причиной его неосознанной тревоги – он не чувствовал смерти. Инспектор не был закоренелым мистиком как не был он и упертым материалистом, допуская существование того, что современная наука не способна была ни объяснить ни даже распознать. За годы работы сначала в уголовной, а потом – в дорожной службе, он сталкивался много раз со смертью и был убежден, что у нее есть своя аура. Он сам ощущал ее каждый раз, когда осматривал очередной труп на обочине дороги или в темных переулках. Сейчас же смерти не было. Это не укладывалось ни в какие рамки и он иронично предположил, что обгоревшее тело, все еще сидящее в покореженном “Рено”, сейчас встанет, улыбнётся и попросит прощения за причиненные неудобства. И все же смерти не было, зато было нечто другое, совершенно другое. Инспектор, в глубине души считавший себя сильным медиумом, ощущал какую-то странную атмосферу. Эти ощущения он не встречал ни в темных переулках, ни на обочинах дорог и в тоже время они были ему смутно знакомы, вызывая давние, прочно забытые воспоминания. Так ничего и не вспомнив, он отогнал ненужные мысли и направился к берегу.
Катер с трудом карабкался на волну, медленно продвигаясь к пристани, но теперь инспектор не чувствовал дискомфорта. Волны изменились, они стали больше, намного больше, но уже не болтали катер, а плавно поднимали его и не торопясь бережно опускали. Возможно, поменялся ветер, но только – заметил инспектор наметанным глазом – что-то странное происходило сегодня с озером. Казалось, оно перестало быть озером и вело себя как море, не швыряясь рваными волнами а колыхая огромные пологие валы. Изменился даже цвет и ему подумалось, что если сейчас зачерпнуть забортной воды и лизнуть ее языком, то почувствуешь вкус соли. Оторвавшись от неизвестно откуда взявшихся загадочных мыслей, инспектор неожиданно вспомнил, что там на берегу около пристани он видел цветочный киоск. Надо будет набрать букет гвоздик жене, подумал он, она очень любит гвоздики, а я ведь так давно не дарил ей цветы.
Ася
Город растекался по обоим склонам горы, врезающейся в море острым клином, и спускался к воде густой сеткой дорожных серпантинов и пересекающих их крутых лестниц. Больница находилась высоко на склоне и ей надо было спуститься вниз к скоростному автобусу, который увезет ее домой, в недалекий пригород. И вот теперь она шла вниз по лестницам, высоко подняв голову и ни на кого не глядя. Редкие встречные провожали ее долгим взглядом. Мужчины, завидев ее летящую походку, сбивались с шага и стояли в растерянности, не понимая что с ними происходит. Потом они вспоминали ее в течении нескольких тревожных дней и ночей, а после этого забывали навсегда. За эти дни ими было написано две симфонии, раскрыта одна тайна природы и созданы восемь поэм, одна из которых впоследствии прогремела. Женщины, и молодые и не очень, встретив ее на лестнице немедленно поправляли прически, долго смотрели на себя в карманное зеркальце и сходили с ума от зависти. А она быстро шла вниз не считая ступеньки и не замечая никого, гордая и красивая женщина, жена человека, победившего Время.
Приговоренные к жизни
Больница "Ланиадо", Нетания, Израиль, 1998
Как ни отмывай, как ни дезинфицируй каждый квадратный сантиметр, все равно в больнице остается слабый, едва уловимый, но явственный запах. Вот человека приводят в комнату со светлыми стенами, дают порцию разноцветных таблеток, колют иглами, мнут умелыми руками. Тогда человек выздоравливает и быстро покидает светлую комнату стараясь не задержаться ни на минуту более чем нужно. Он торопится, его подталкивает тот едва уловимый, на уровне подсознания, запах. Павел Семенович называл его про себя "запахом безнадежности". Возможно, думал он, его оставили те, кто ушел отсюда в свой последний путь. Должно же хоть что-то остаться от человека. Павла Семеновича этот запах не беспокоил. Да и может ли игра подсознания смутить кадрового офицера, правда уже бывшего? Не смущала его, полежавшего, в свое время, в гарнизонных госпиталях, и переполненная палата. Он не так давно жил в Израиле, но был наслышан о том, что в стране почти не строят новых больниц, по-видимому – из-за нехватки земли под строительство. Поэтому больницы росли вверх и во все стороны, обрастая самыми немыслимыми пристройками. Умиляли и эти коридоры, идущие в непредсказуемых направлениях, и лестницы, поднимаясь по которым, ты вдруг оказывался в совершенно другом здании, и верхние этажи, удивительным образом переходящие в подвалы. Да, эта архитектура была рассчитана на крепкую психику, впрочем, Павел Семенович на нервы не жаловался. Он вообще не жаловался на здоровье и справедливо считал себя крепким стариком, пока однажды их семейный врач, укоризненно покачав головой, не предложил Павлу Семеновичу, как он выразился – "немного понаблюдаться". Никогда бы он сам не согласился "понаблюдаться", но жена настояла, и вот он здесь, в палате на троих, в которую еще добавили одну кровать и уложили на нее пожилого араба. Араб был, судя по количеству навещающих его родственников, из самой глухой деревни, иврита не знал, общаться с ним не было никакой возможности. Да и не с моим ивритом общаться, думал Павел Семенович, оглядывая соседей по палате. Йеменец1 средних лет на койке слева только постанывал после операции и почти все время спал. А последний сосед, получивший самую лучшую койку – у окна, тоже не подавал признаков жизни, отгороженный глухой занавеской.
Поэтому, когда дежурная медсестра, предложила ему перейти в другую палату, он не только не возражал, но даже обрадовался. Медсестра была симпатичной морокканкой средних лет, с которой Павел Семенович немного, в рамках приличия и знаний языка, флиртовал от скуки. Любой флирт, даже самый невинный, не исключает прагматического интереса. Был такой и у Павла Семеновича. От медсестры, которая ему явно благоволила, он узнал, что уже пришли его анализы, ничего у него не обнаружено, и от выписки его отделяет только пара-тройка формальных проверок, которые, однако могут занять день или два, а там уже наступит суббота, так что куковать ему здесь по крайней мере до воскресенья. Фамилию Павла Семеновича она выговаривала очень смешно – Буколов2, коверкая первую букву и делая ударение на последнем слоге. А может быть это, в своем роде, возвращение к истокам, подумал Павел Семенович? Ведь жена же объяснила, что их фамилия имеет греческие корни и созвучна слову "буколический".
– Какие истоки, Вуколов ты липовый? – тут-же подумалось ему, но на эту тему он запретил себе думать много лет назад и привычно загнал ненужную мысль поглубже в подсознание.
В новой палате было полутемно, и Павел Семенович, невольно замедлив шаги, вошел, даже прокрался, незаметно, стараясь не делать лишнего шума. И напрасно – новый сосед не спал, из совсем уже темного угла, в котором стояла его кровать, доносились негромкие гитарные аккорды. Немного хрипловатый голос напевал:
Снег упал на базальтовый склон
…поседели дома
Я в недолгий мороз влюблен
..на Голанах3 – зима
Запорошенный шрам скалы
…снег не падает вниз
Лишь пятнают его следы
…обезумевших лис
Ночь разбрызгала белый свет
…на унылом плато
И звезда покивает вслед
…если что-то не то
Голубые сугробов горбы
…сторожат вдоль дорог
И таинственный свет луны
…необычен и строг
Но недолгий зимы покой
…не продлится и дня
Полдень выплавит солнца зной
…обнажится земля
И последний снежок зимы
…унесется один
Посылая глоток воды
…ожиданию равнин
Я безмoлвно печаль несу
…эта ноша легка
Снег упал на мою судьбу
..и не стаял…пока
Неизвестный больной, лицо которого скрывал полумрак дальнего конца комнаты, пел хоть и неумело, но с чувством, и Павел Семенович невольно заслушался. Слова песни певец произносил чисто и свободно, но натренированный слух старого артиллериста сразу определил, что русский исполнителю не родной. Акцент, почти незаметный, тоже был каким-то странным. Это не был ни говор хорошо поживших на Ближнем Востоке израильтян, которые тянут звуки в паузах, ни русский язык американских евреев, которые забавно смягчают окончания, ни акцент местечковых ашкеназов4 со смещенными ударениями. Павлу Семеновичу этот необычный говор был, казалось бы, совсем незнаком и, в тоже время что-то смутно напоминал где-то там, на самом краю подсознания.
Но тут гитарные аккорды прервались и он поспешил сказать: "Не помешаю?”
– Мир входящему… – донеслось из угла.
– Мне сказали что вы сами хотели соседа. А то неудобно как-то. Была отдельная палата, а теперь....
– Все верно. Видите-ли – как-то неуютно умирать в одиночестве – Это прозвучало неожиданно, и Павел Семенович машинально пробормотал:
– Ну что вы так. Выглядите вы совсем неплохо.
– Я тоже так думаю. Но у моих почек, знаете-ли, сложилось свое мнение. Впрочем, против трех-четырех месяцев они не возражают – послышалось из угла. В голосе нового соседа сквозила ирония, направленная впрочем явно не на Павла Семеновича. Зато теперь стала понятной и довольно просторная палата на двоих и непонятное смущение медсестры, предлагавшей ему перевод. Отступать было не в привычках отставного артиллериста, да и не было у него никаких предубеждений, а уж умирающих он навидался за свою долгую жизнь. К тому же сосед по палате был, очевидно, неординарным человеком, пробуждающим несомненный интерес. Совсем уже не зная, что сказать, Павел Семенович пробурчал:
– Извините…
– За что? Это вы извините, что так ошарашил. И, если не хотите соседствовать с умирающим, то я вас пойму и не обижусь.
Лицо говорившего оставалось в тени, но голос звучал четко и ясно. Акцент тоже, казалось бы исчез, или просто Павел Семенович перестал его замечать.
– Я вообще-то бывший военный, кое-где бывал и кое-что там видел – Павел Семенович понемногу приходил в себя – У вас-то, по крайней мере, руки-ноги на месте, простите за цинизм.
– Ой, да бросьте вы извиняться! Я хоть в армии и не служил, зато за 30 лет в стране тоже кое-что повидал – голос соседа был по прежнему ироничен, но это более не настораживало Павла Семеновича, скорее начинало казаться естественным.
– Ну тогда позвольте представиться – Павел Семенович Вуколов – пробормотал он, еще не совсем оправившись от смущения.
– Очень приятно – последовала небольшая пауза и сосед сказал:
– Имя вроде не совсем еврейское?
– Вообще-то я еврей по жене – эту формулировку Павел Семенович придумал сам и очень ей гордился как самым верным и коротким объяснением его статуса. Не будешь же всем и каждому рассказывать что жена у тебя еврейка, а сам ты гой5 необрезанный. Последнее, впрочем было не совсем верно, и пару раз вызывало непредвиденные вопросы в гарнизонной бане, но на этот случай у Павла Семеновича было придумана весьма правдоподобная история про дедушку-татарина.
– Nobody’s perfect6 – послышалось из угла.
– Что, позвольте? – сказано было, похоже, по английски, а английским Павел Семенович не владел. В послевоенном артиллерийском училище языком “вероятного противника” по инерции считался немецкий, который давался ему легко, подозрительно легко, хотя курсант Вуколов всячески старался, чтобы его успехи в немецком не слишком бросались в глаза.
– Да так, ничего…А здесь вы по какому поводу? Тоже последняя остановка?
Разговор начал переходить в стандартное медицинское русло и Павел Семенович почувствовал себя увереннее:
– Нет, мне вроде-бы приговор отменили. Теперь жду результатов анализов. Вот вы сказали "последняя остановка"?
– Еврейский юмор, знаете-ли.
– Знаю, как не знать. Смех сквозь слезы. Только это и спасало нас в гетто – сказал Павел Семенович и тут же пожалел об этом.
– В гетто? В каком гетто? – в голосе соседа прозвучало и недоумение и любопытство.
– В вильнюсском гетто… – Павел Семенович подумал и решил, что отступать уже поздно. Да и все равно никто не поверит.
– Про Понары7 слышали? – спросил он.
Голос соседа, еще недавно не по старчески звонкий, теперь звучал глухо и напряженно:
– Кто же не слышал – похоже, он отвернулся от собеседника, хотя полумрак не позволял это увидеть.
– Ну не скажите… Многие не слышали, а иным – все равно.
Павла Семеновича несколько насторожила странная реакция человека в тени. Но голос соседа снова стал звонким и ироничным:
– Тут иных нет… Но я не совсем понимаю. Вуколов Павел…Семенович? И вильнюсское гетто, Понары. Как-то не очень…
На слове "Понары" он запнулся, как будто что-то мешало ему выговорить это, казалось бы, совершенно обычное название. Не договорив фразы, сосед ждал реакции собеседника. Напряженная тишина казалось растекалась по комнате. Нехотя, почти против своей воли Павел Семенович сказал:
– Долгая история. Я ведь не всегда был Вуколовым.
– Я бы послушал долгую историю – голос продолжал звучать четко, но нотки иронии куда-то исчезли.
– Это не так уж интересно, да и мне не не слишком приятно. Быть жертвой – не самая приятная роль.
Павел Семенович решительно не понимал, куда заведет его странный разговор, но и отступать не собирался.
– Что может быть хуже? – спросил он, не ожидая ответа. Но ответ немедленно последовал:
– Наверное – быть палачом.
Этого Павел Семенович ожидал меньше всего. Разговор начинал становиться интересным и он отреагировал сразу:
– Ну это уже где-то за гранью, такое мне трудно себе представить…
– А вы пробовали?
– Пробовал что?
– Представить себе то что чувствует палач.
– Ничего он не чувствует. Откуда у него чувства? – Павел Семенович сообразил, что сказал глупость – Ну нет, он конечно что-то такое… – он запнулся, не зная как продолжить фразу, но собеседник пришел ему на помощь, прервав его:
– А что ощущал тот который повесил Эйхмана8?
– Это не одно и то же. Эйхмана следовало повесить – Павел Семенович начал сердиться.
– И исполнитель приговора искренне верил в это. А если те что стреляли в Понарах, тоже искренне верили, верили в какую-нибудь нелепую чушь. Во что только люди не верят по глупости…и по молодости.
– Так ведь можно все что угодно оправдать – возмутился Павел Семенович.
– Нет! – человек в тени казалось выкрикнул это слово и Павел Семенович невольно вздрогнул.
– Оправдать неможно… – не совсем правильно сказал голос из тени и сам себя поправил:
– Нельзя,…невозможно.
Эта оговорка проскользнула почти незаметно для Павла Семеновича. Только подспудно мелькнула мысль: "Как знакомо… Где же так говорят9?" Мелькнула и пропала, потому что сказано это было с какой-то болью в голосе. Затем голос продолжил уже немного спокойнее и со знакомой иронией:
– Разве что, пожалуй, можно попробовать понять. Но и это не обязательно.
– Именно в этот момент Павел Семенович почувствовал, как, казалось бы, абстрактный спор задевает лично его.
– Кого понять? – воскликнул он уже не полностью контролируя себя – Того кто хотел застрелить тебя только за то что ты еврей? Не хочу я его понимать и не буду.
А его странный собеседник продолжал как ни в чем не бывало:
– А вот если бы вы встретили сегодня на улице одного из тех, кто стоял там, в Понарах, над обрывом? Что бы вы сделали?
– Я? – пытался собраться с мыслями Павел Семенович, но его опять прервали:
– Давайте упростим задачу. Пусть это будет не садист, получающий удовольствие от казни, вроде…
– Вроде кого?
– Да нет, неважно. И пусть это будет не тот, кто подписывал…
Сердце Павла Семеновича пропустило удар.
– Что подписывал? – спросил он хриплым голосом.
– Приказы, конечно. Что с вами?
– Нет, ничего. Продолжайте – он очень надеялся, что голос не дрогнет. И он не дрогнул.
– Пусть это будет один из тех восторженных придурков что по глупости попали в Особый Отряд10.... – продолжил ироничный голос в углу.
– А вам ведь действительно не все равно – с удивлением произнес Павел Семенович – Мало кто слышал про Особый Отряд. Конечно, мне трудно представить себе такого придурка здесь, в этой стране, но разве что теоретически… – он сделал выразительную паузу.
– Да, именно теоретически.
Павел Семенович задумался. Почему-то именно сейчас, наедине с невидимым собеседником, ему захотелось ответить максимально честно.
– Не знаю… – сказал он – Вы конечно ждете чего-нибудь вроде “своими руками задушил бы поганца!!” Раньше, много лет назад я бы так и поступил. А теперь все оно перегорело что-ли. – и повторил – Не знаю. Наверное просто вызвал бы полицию и сдал бы его как можно быстрее чтобы не испачкаться.
– И вы бы даже не захотели спросить его? – прозвучал вопрос из угла. Но прозвучал как-то легковесно, даже робко. Казалось будто незнакомец сам боится ответа.
– Спросить? О чем? – теперь Павел Семенович решительно не понимал сути разговора.
И тут таинственный человек начал выходить из тени. Он с видимым трудом поднялся с больничной кровати в углу и подошел к окну. Теперь Павел Семенович мог его видеть. Ничего особенного не было в его новом соседе. Не было в нем и ничего таинственного. Павлу Семеновичу на миг померещилось, что не было этого странного диалога, не было непонятных вопросов, иронии в голосе, смутно знакомых оговорок и удивительного акцента. Как будто он только сейчас вошел в комнату и надо бы познакомиться. Он даже хотел поздороваться и представиться, но вовремя опомнился, сбросив наваждение, преодолев его как дежа-вю после тяжелого и продолжительного сна. Сосед стоял в пол-оборота, так что его профиль четко вырисовывался на фоне беленой стены. Человек как человек, пожилой, наверное ровесник или около того, фигура несколько сгорблена, Наверно – болезнью – подумал Павел Семенович, запоздало вспомнив, что напротив него безнадежно больной. И тут сосед повернулся и взглянул на него в упор. Бог весть что ожидал увидеть Павел Семенович, но ничего особенного он не увидел. Лицо как лицо, старческие морщины, немного обвисшая линия рта. Вот только глаза, глаза незнакомца смотрели на него странно, как будто тот ожидал какой-то реакции, узнавания, удивления. А Павел Семенович решительно не собирался удивляться. Пауза затягивалась. По лицу незнакомца несколько раз пробежала волна мышц, как будто он хотел что-то сказать, но не мог решиться. Наконец он заговорил и его голос звучал ровно и неестественно спокойно:
– Что-же это мы как не родные, все на вы и на вы. Я за 30 лет как-то отвык выкать – он помолчал, и, вероятно, окончательно что-то решив для себя, продолжил – Меня зовут… – казалось он запнулся на долю секунды – Меня зовут Реувен Фаенсон. Тоже из Вильнюса и тоже из гетто…
Много лет назад Павла Вуколова, тогда еще младшего лейтенанта, командировали на полигон под Семипалатинском. Ничего ему не объяснили, взяли с него очень суровую подписку о неразглашении государственной тайны и велели сидеть тихо и записывать показания непонятных приборов. А еще ему приказали надеть темные очки, подобные тем, что надевали пилоты в старых фильмах, и ни за что эти очки не снимать. Очки закрывали половину лица и это было очень неудобно, на полигоне было жарко и пот заливал лицо, но молодой офицер пуще всего боялся невыполнения приказа, что и спасло ему зрение. В тот момент, когда взорвался заряд, Павлу на миг показалось, что мир изменился, изменились законы физики, которые он учил в детстве. Этот безумный, неестественный свет не мог, просто не имел права существовать в нашем мире. Казалось что вселенная вывернулась наизнанку и не хотела возвращаться назад. Потом потускнел лиловый гриб и вселенная постепенно вернулась в свое прежнее состояние. С годами воспоминания потускнели, но и через годы он четко помнил это ощущение невозможности, нереальности происходящего.
И то же самое случилось сейчас. Происходило нечто подобное тому давнему семипалатинскому взрыву. Мир встал на дыбы и снова стал невозможным, невероятным, неправильным. Павел Семенович, еще не придя в себя судорожно всматривался в лицо незнакомца, стараясь отыскать в них знакомые черты. Но не было, не было в этом лице ничего знакомого. Не мог этот человек быть тем, кем он себя называл, не мог хотя бы потому, что Павел Семенович своими глазами видел… И может быть для того, чтобы прервать эти воспоминания он хрипло пробормотал:
– Но ведь вся семья Фаeнсонов… У меня на глазах… Лейтенант Клокке… – он не договорил, подозревая, что он говорит совсем не то, что следовало сказать. А что следовало сказать? Этого растерянный Павел Семенович решительно не понимал. Но незнакомец, казалось, его прекрасно понял:
– Все верно. Энрикас Клокке застрелил их…
– … Выстрелил в затылок – машинально произнес Павел Семенович, хотя этого, наверное тоже не следовало говорить. А почему не следовало, подумал он? И что именно надо было сказать?
– Да, в затылок. Всем, даже младшим, даже детям… Всем, кроме Реувена. Мне он выстрелил в лицо… А еще там была семья Лошоконисов… – начал было его оппонент, но Павел Семенович прервал его:
– Но как же вы…?
– … ты – последовала немедленная поправка.
– Как же ты…? – машинально повторил Павел Семенович и замолчал, толком не представляя, что именно ему следует спросить.
– Ты знал Реувена? – прозвучало от окна. Он судорожно кивнул. В горле внезапно пересохло и, казалось невозможным произнести хотя бы слово. А человек у окна продолжал:
– Помнишь, как несколько еврейских семей, в слепом порыве ассимиляции, послали своих детей в литовскую гимназию? Там еще были Реувен Фаенсон и Натан Йозефавичус. Так ведь, Натан?
Натан! Это же его имя! Так его звали давным-давно, много лет тому назад, еще до провонявшего смертью окопа в Померании, до подслеповатых коридоров артиллерийского училища, до бесчисленных пыльных гарнизонов. Он задвинул это полузабытое имя далеко-далеко, в темные подвалы памяти, туда, где хранились острые шпили Святой Анны, синагога на Еврейской улице, замок Гедиминаса на холме и обрыв в Понарах. И теперь он узнал человека у окна. Это Павел Вуколов не знал его, да он и не мог знать. Но Натану Йозефавичусу был хорошо знаком тот, с кем он просидел долгие три года за одной партой. Натан невольно отошел на шаг назад и скорее прохрипел чем сказал:
– Так это ты?!
Человек у окна казалось не слышал его и продолжал:
– … Учитель Лошоконис рассадил их среди литовских детей. Натану досталось сидеть…
– Альгис? Ты Альгис? Альгис Вайткус? – Натану наконец-то удалось совладать со своим голосом.
– Я был Альгисом Вайткусом.
– И ты..
– Да, Альгис расстреливал людей в Понарах. Молодой, неопытный дурак.
Вселенная решительно не собиралась вернуться в свое исходное состояние. Все было неправильно, все было не так, все было вывернуто наизнанку. "Почему он говорит о себе в третьем лице?" подумал Натан. Наверное, он сказал это вслух, потому что Альгис ответил ему:
– Не знаю. Мне так удобнее – его слова прозвучали неуверенно, видимо он и сам не понимал себя, как-будто и его мир был вывернут наизнанку.
– И ты убил Фаенсонов!? – на Натана начала накатываться неконтролируемая волна гнева.
– Нет, их убил Энрикас Клокке. А Альгис убил Лошоконисов.







