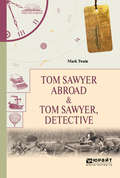Марк Твен
Приключения Тома Сойера
Была одна штуковина, без которой экстаз мистера Уолтерса не мог быть полным – это была возможность вручить в качестве приза какому-нибудь счастливцу Библию, дабы продемонстрировать всем чудо божественного Воздаяния и Справедливости. У многих учеников оказалось только по несколько жёлтых билетов, чего явно не хватало на оплату Библии, и он уже знал это, опросив загодя всех звёздных учеников. Сейчас он отдал бы всё на свете, лишь бы тот немецкий парень вернулся из психушки в школу в здравом уме и памяти.
И вот теперь, когда эта квёлая надежда окончательно умерла, Том Сойер вышел вперёд с девятью жёлтыми билетами, девятью красными и десятью синими, и тут же потребовал Библию.
Это был гром среди ясного неба!
Уолтерс никак не ожидал, что из этого мёртвого источника в ближайшее тысячелетие может поступить подобная заявка. Но обойти претензию на величие было совершенно невозможно – вот заверенные чеки, и плата по ним должна быть произведена незамедлительно. Поэтому Том был водружён на место перед судьёй и другими приглашёнными богоизбранниками, и из их штаба была возвещена на весь мир очередная благая весть. Это был самый ошеломляющий сюрприз последнего десятилетия, и впечатление от него было настолько испепеляющим, что оно подняло нового героя где-то на высоту местного судьи, а школа обзавелась сразу двумя чудесами вместо одного. Все мальчики были снедаемы дикой завистью, но самые горшие муки испытывали те, кто слишком поздно осознал, что они сами, по собственной воле и глупости, так легкомысленно сбывая билетики направо и налево, на свою голову сварганили это ненавистное великолепие, вознесли злодея к небесам, обменяли билеты на неземное богатство, которое он накопил, продавая подряды на побелку забора. Они презирали себя, считая себя лохами, обманутыми хитрым, подлым мошенником, коварной подколодной ядовитой змеёй, затаившейся на их погибель в густой придорожной траве.
Премия была вручена Тому с такими пышными словесными излияниями, на какие директор школы был способен и какие только мог извергнуть из себя в подобных обстоятельствах, но в них не было и намёка на истинное восхищение, ибо инстинкт подсказывал бедняге, что здесь кроется какая-то подпольная заковыка, тайна, которая, возможно, не выдержит яркого дневного света – было просто нелепо, непредставимо, дико, что этот мальчик хранил в своих микроскопических мозговых извилинах две тысячи снопов бесценной библейской мудрости – даже их дюжина, без сомнения, напрягла бы его интеллектуальные способности до беспредела.
Эми Лоуренс была безмерно горда и счастлива, она пыталась заставить Тома увидеть это на своём лице, но он не смотрел на неё. Она задумалась, скоро её охватило легкое беспокойство, затем смутное подозрение превратилось в осознание, оно пришло и ушло – потом пришло снова; она стала присматриваться пристальней, и это открыло ей всё – и тогда её сердце разбилось на куски, и она ревновала, и злилась, и слёзы наворачивались на её прекрасные очи, и она ненавидела всех и вся. И Тома больше всех! (Так по крайней мере думала она сама).
Том был представлен судье, но язык у него заплетался, дыхание сбивалось, сердце скакало – отчасти из-за ужасного величия этого человека, но главным образом потому, что он был Её отцом. Ему хотелось упасть ему в ноги, и он несомненно сделал бы это, будь он к кромешной темноте. Судья возложил Тому на голову руку, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Мальчик запнулся, задохнулся и выпалил:
– Том!
– О, нет, не Том – это…
– Томас!
– Ах, вот оно что! Я думал, что ваше имя не такое короткое! Это очень хорошо! Но у вас есть ещё и фамилия, и я полагаю, что вы мне её озвучите, не так ли?
– Назовите джентльмену вашу фамилию, Томас, – сказал Уолтерс, – и скажите «сэр». Вы не должны забывать о хороших манерах!
– Томас Сойер, сэр!
Давайте милосердно опустим занавес над остальной частью этой потрясающей сцены.
ГЛАВА V
Около половины одиннадцатого зазвонил треснувший колокол маленькой церкви, и вскоре народ начал стекаться на утреннюю проповедь. Ученики воскресной школы рассредоточились по помещению и заняли скамьи вместе с родителями, чтобы быть под их присмотром. Пришла тётя Полли, и Том, Сид и Мэри сели рядом с ней. Тома поместили рядом с проходом, чтобы он был как можно дальше от открытого окна и соблазнительных летних пейзажей за окном. Толпа потянулась по проходам: пожилой, кровобокий почтмейстер, видавший, похоже, лучшие дни, мэр и его жена (ибо в этом городишке среди прочих ненужных вещей, был свой мэр) мировой судья, вдова Дуглас, красивая, умная и сорокалетняя, щедрая, добросердечная и состоятельная, (её особняк на холме был единственным дворцом в городе, самым гостеприимным, хлебосольным и самым щедрым в отношении празднеств, которыми мог похвастаться Санкт-Петербург) согбенный и почтенный Майор и миссис Уорд, также был адвокат Риверсон, новая знатныая шишка, прибывшая издалека, затем первая красавица деревни, сопровождаемая роем одетых в газоны и ленты людей – это были приодетые в шелка молодые записные сердцееды, затем шли все молодые клерки города в полном составе, они толпились в вестибюле, посасывая свои тростниковые трости, окруженные стеной смазанных маслом и жеманных поклонниц, ждущих, пока последняя девушка не пробежит мимо них по галерее, и последним шёл образцовый мальчик, Вилли Мафферсон, пекущийся о своей матери так же заботливо, как если бы она была хрустальной. Он всегда приводил свою мать в церковь и был гордостью всех записных матрон. Все мальчишки ненавидели его, так он был хорош. И кроме того, им слишком часто тыкали в нос, как примером благовоспитанности. Его белый носовой платок всегда на милю торчал из кармана сзади, по будням и воскресеньям – и всегда как бы случайно. У Тома не было носового платка, а на мальчиков с платками он смотрел как на мерзких снобов.
Собравшиеся уже были в полном сборе, когда колокол звякнул ещё раз, предупреждая отставших и опаздывающих, а затем в церкви воцарилась торжественная тишина, нарушаемая только хихиканьем и перешептыванием хора на галерке. Хор хихикал и шептался на протяжении всей службы. Когда-то тут был настоящий церковный хор, который был вышколен, как надо, но теперь я забыл, куда он делся. Это было очень много лет назад, и я почти ничего не помню об этом, но я думаю, что это было в какой-то другой стране.
Священник выдал имя гимна и прочел его с глубоким наслаждением, в особом стиле, которым всегда восхищались в этой части страны. Его голос начинался в средней тональности и неуклонно лез вверх, пока не достигал высшей точки, где он с сильным ударением произносил самое ключевое слово, а затем нырял вниз, как прыгун с трамплина:
Ужель цветком на небесах я буду
Вдруг вознесён,
Когда мой ближний плыть по морю крови
Стал обречён!!!
Его считали великолепным чтецом. В церковных «светских беседах» его всегда призывали читать стихи, а когда он заканчивал, дамы поднимали руки и беспомощно опускали их на колени, «закрывали глаза» и качали головами, как бы говоря: «словам не выразить этого – это слишком прекрасно, слишком возвышенно для этой бренной, ничтожной земли!»
После того как гимн был спет, преподобный мистер Спрэгью превратился в живую доску объявлений и долго нудным замогильным голосом зачитывал «объявления» об очередных собраниях, заседаниях обществ и тому подобной ерунде, пока не начинало казаться, что этот список растянется до конца света – странный обычай, который до сих пор сохраняется в Америке, даже в городах. (И это в век изобилия газет!) Часто, чем меньше существует оправданий какому-нибудь липкому, как банный лист, обычаю, тем труднее от него избавиться.
А теперь священник молился. Это была добрая, великодушная молитва, и она вдавалась во все мельчайшие подробности мира и припоминала всех подряд: она молила о величии церкви и не забывала маленьких детей Церкви; напоминала о других церквах, глаголила о самой деревне; твердила о графстве, долдонила о государстве, говорила о бесчисленных рядах государственных чиновников и наконец возвещала о самих Соединенных Штатах, но не останавливалась на этом – припоминала о всех церквях Соединенных Штатов, вспоминала о Конгрессе, гремела о президенте, об офицерах правительства, о бедных матросах, забытых в штормовом море, о миллионах угнетённых рабов, стонущих под пятой деспотий и о зверстве тёмных восточных тиранов, ибо те, которые имеют свет и благую весть, но не имеют ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать – грешны и преступны вместе с ними, ибо язычники на дальних островах морских, и эта крутая молитва завершалась мольбой, чтобы слова, которые он собирался произнести, нашли благодатную почву в умах слушателей и были благословением для всех и были плодотворны, как семя, брошенное в благодатную почву, дав со временем обильный урожай добра и радости. Да будет так! Аминь!
Послышалось шуршание платьев, и стоящая, будто проглотившая швабру, паства села. Мальчик, о котором повествует эта книга, не получал ровным счётом никакого удовольствия и радости от этой всеобъемлющей молитвы, он только, скрепясь сердцем и зубами, нужно признаться, героически терпел её, пока были на это силы. Всё это время он был как на иголках. Смысл молитвы благополучно пролетал мимо его ушей, и он только подсознательно следил за подробностями молитвы, потому что не слушал и только фиксировал очередные тезисы и постулаты по их номерам, хотя старый, истоптанный маршрут священника был известен ему наизусть и, когда какая-нибудь мелочь добавлялась к до боли знакомому повествованию, ухо его сразу улавливало подставу, и тогда вся его натура возмущалась – он считал эту преступную добавку, хоть на секунду удлинявшую эту мучительную, иезуитскую пытку, несправедливой и подлой. В разгар молитвы муха уселась на спинку скамьи прямо перед ним и своим наглым видом смутила его душу, спокойно потирая лапки, обнимая голову и полируя её так энергично, что она, казалось, почти расставалась с телом, и тонкая нить шеи открывалась взору. Она суетилась, скребя крылья задними лапками и нежно приглаживая их к телу, как будто это были не крылья, а фалды фрака, она занималась своим туалетом так спокойно, будто знала, что сейчас это совершенно безопасно. Как оно и было на самом деле – как ни зудели руки Тома, требуя схватить муху, они не осмеливались вмешаться – Том был уверен, что его душа будет мгновенно уничтожена, если он свершит это во время молитвы. Но с заключительной фразой молитвы его рука сама собой начала изгибаться и медленно подкрадываться в мухе, и в то мгновение, когда торжественное «Аминь» вырвалось изо рта священника наружу, муха уже была военнопленной. Тётя вовремя заметила конец маневров Тома и завершающий операцию рейд, и заставила его досрочно освободить заключённую.
Священник продолжил выдавать на гора свои откровения, и монотонно бубнил, приводя аргументы, которые были настолько прозаичны, что многие головы постепенно начали кивать долу, невзирая на то, что как раз в это время речь шла о бушующем море адского огня и плещущейся и кипящей сере, а число избранных, которым было уготовано неземное счастье пребывать в раю, измерялось таким мизерным количеством голов, что их едва ли стоило спасать! Том пересчитал страницы проповеди. После церкви он всегда знал, сколько там было страниц, но редко знал о проповеди что-нибудь ещё. Однако на сей раз кое-что заинтересовало его. Служитель нарисовал грандиозную и трогательную картину того, как собираются вместе воинства мира в тысячелетнем царстве, когда Лев и Ягнёнок должны возлечь вместе и маленький ребёнок обязан вести их с пальмовой веткой в руке. Но пафос, урок, мораль этого великого шоу были потеряны для мальчика – он думал только о том, насколько заметен главный герой перед взирающими на него народами. При этой мысли его лицо озарилось этой мыслью, и он сказал себе, что хотел бы быть этим ребёнком только в том случае, если бы этот лев был ручной или дрессированный.
Теперь, когда зелёные пажити Египта, где можно было охотиться на мух, были позади, и перед ним возобновилась испепеляющая сушь словесной Синайской пустыни, он снова впал в ступор. Наконец он вспомнил о своём сокровище и вытащил его. Это был большой чёрный жук с огромными челюстями – он называл его «щипач-скрипач-кусака». До этого он лежал в коробке из-под капсюлей. Первое, что сделал Жук, почуяв свободу, так это укусил Тома за палец. Последовал глухой щелчок, и Жук, барахтаясь, вылетел в проход и теперь барахтался на спине прямо посреди прохода, в то время, как раненый палец исцелялся во рту у мальчика. Жук лежал, барахтаясь и перебирая беспомощно лапками, не в силах перевернуться. Том смотрел на него немигающим тоскливым взором, но, увы, жук был вне его досягаемости. Соседи Тома по церковной скамье, тоже не слишком обременённые проповедью, тоже нашли в жуке какую-то забаву, и тоже посматривали на него, посмеиваясь. Вскоре появился старый бродячий пудель, меланхоличный и ленивый от летнего зноя и тишины, утомлённый сиденьем взаперти и отчаянно жаждущий перемен и новых впечатлений. В то же мгновение, когда он внезапно заметил жука, его поникший было хвост поднялся трубой и завилял. Пёс оглядел добычу, обошёл её кругом, понюхал с безопасного расстояния, снова обошёл, наклонил голову, осмелел и понюхал с ближней дистанции, потом приподнял губу, раскрыл пасть и попытался осторожно схватить добычу, но промазал, отряхнулся, сделал ещё одну попытку, и ещё, и ещё, наслаждаясь этой весёлой забавой, потом улёгся на живот, зажав жука между лапами, и так продолжал свои опыты, пока не уморился. Тут он замер, равнодушный и разочарованный. Голова его кивнула, и мало-помалу борода его стала клевать, потом потихоньку опустилась вниз и наконец коснулась врага, который тут же воспользовался благоприятным моментом и впился клешнями в пса. Раздался жуткий визг, пудель дико мотнул головой, и жук отлетел и упал в нескольких ярдах от него, и снова на спину. Зрители с соседних мест затряслись от нежной внутренней радости, несколько лиц скрылись за веерами и носовыми платками. Том был на вершине счастья. Пёс выглядел глупо и, вероятно, чувствовал себя так же, но в его сердце уже оживала обида и множилась жажда мести. Поэтому он, крадучись, подкрался к жуку и начал снова осторожно атаковать его, прыгая на жука со всех сторон по кругу, перебирая передними лапами в дюйме от коварной живности, делая всё более настырные попытки схватить его зубами и дергая головой, пока его уши не стали хлопать его по голове. Но через некоторое время он снова уморился, попытался развлечься мухой, но не вдохновился ею, погнался за муравьём, уткнувшись носом в пол, и быстро потерял к мелкому зверю всякий интерес, зевнул, грустно вздохнул, совсем забыл про жука и уселся на него. Раздался ещё более дикий вопль, таким бывает только вопль последних минут агонии, и тут пудель истошно помчался по проходу. Вопли его множились, становились громче и пёс с бешеной скоростью метался по церкви, воя и тявкая, только перед алтарём он остановился на мгновение, и заметался, завертелся, как колесо и полетел по другому проходу, метнулся к дверям, бросился назад по проходу, вышел на финишную прямую, его муки множились с каждым шагом, пока наконец он не превратился в мохнатую комету, мечущуюся по круговой орбите с блеском и скоростью света. Наконец обезумевший страдалец свернул с курса и прыгнул на колени к своему хозяину, тот выбросил его в окно, и голос отчаяния и боли постепенно затих вдали.
Глава VI
Утром в понедельник, Том почувствовал себя чрезвычайно несчастным. Утро понедельника всегда находило его таким – потому что начиналась очередная неделя медленных пыток в школе. Обычно он начинал этот день с того, что жалел, что у него был выходной день – воскресенье, потому что краткость его делало возвращение в темницу к школьным оковам делом ещё более отвратительным.
Том лежал и думал. Вскоре ему пришло в голову, что лучше бы он заболел; тогда он мог бы остаться дома и не ходить в школу. Здесь была смутная, едва забрежившая возможность. Он проинспектировал свой организм. Никакого недомогания обнаружено не было, и он снова дотошно провёл повторное расследование. На этот раз ему показалось, что он способен при определённом напряжении фантазии и воли обнаружить симптомы колик, и он начал поощрять их с большой надеждой. Но вскоре колики ослабели и вскорости совсем исчезли. Он продолжил размышлять дальше. Внезапно было обнаружено кое-что более ценное. Один из его верхних передних зубов был выбит и шатался. Это была несомненная удача – он уже готов был застонать «для разогрева», как он это называл, когда ему пришло в голову, что если он придет в суд с этим аргументом, его тётя мгновенно выдернет зуб, и это будет ох как больно. Поэтому он решил, что пока будет держать шатающийся зуб в запасе и стал искать дальше. Какое-то время ничего не могло подвернуться под руку, а потом он вспомнил, как доктор рассказывал об одной вещи, которая на две-три недели уложила одного пациента в постель и чуть не лишила его пальца. Поэтому мальчик нетерпеливо вытащил из-под простыни свой больной палец и воздел его к небу для критического осмотра. Но, к сожалению, пока что приличествующих такому горю симптомов не обнаружилось. Однако, ему показалось, что дело на мази и стоит рискнуть, так что он со значительным воодушевлением принялся стонать и охать.
Но Сид продолжал дрыхнуть без задних ног.
Том застонал громче, и ему показалось, что боль в пальце ноги стала усиливаться.
Стоны тома стали настойчивее и громче. Никаких результатов. Сид лежал, как бревно.
К этому времени Том уже задыхался от напряжения, истратив неимоверные усилия на свои охи и вздохи. Он немного отдохнул, а потом наполнил всю грудь воздухом и выдал целую симфонию восхитительных стонов.
Сид продолжал храпеть.
Том был раздражён. Он сказал: «Сид, Сид!» – и встряхнул его. Этот приём сработал хорошо, Сид зашевелился, и Том снова начал методично стонать. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте и, фыркнув, уставился на Тома. Том продолжал стонать. Сид сказал:
– Том! Скажи, что с тобой, Том!
Нет ответа!
– Сюда, Том! Том! В чем дело, Том?
Тут Сид встряхнул Тома и с тревогой уставился ему в лицо.
Том застонал:
– О, не надо, Сид! Не надо меня трясти!
– Почему, в чем дело, Том? Я позову тётю!
– О, нет! Не надо! Это мелочи! Может быть, со временем пройдёт! Прошу тебя! Не зови никого!
– Но я должен! Не стони так, Том! Это ужасно! Сколько это у тебя?
– Несколько часов! Ой! Ой, не трогай так, Сид, ты убьешь меня!
– Том, почему ты не разбудил меня раньше? О, Том, не надо! Не умирай! У меня мурашки бегут по телу, когда я слышу твои вопли! Том, в чем дело?
– Я прощаю тебе всё, Сид! (Стонет) Всё, что ты когда-либо делал со мной! Когда я умру…
– О, Том, ты ведь не умрёшь, правда? Не надо, Том… ох, не надо!
– Я прощаю всех, Сид! (Стонет) Передай им это, Сид! А ты, Сид, отдай мою сломанную оконную раму и одноглазого котёнка той новенькой, что приехала в город, и скажи ей…
Но тут Сид схватил свою одежду и убежал. Том теперь страдал наяву, так прекрасно работало его воображение, и поэтому его стоны приобрели вполне натуральный оттенок.
Сид слетел вниз и сказал:
– О, тётя Полли, скорее! Том умирает!
– Умирает?
– Да, мэм, идёмьте скорее! Надо торопиться!
– Чушь собачья! Я в это не верю!
Но тем не менее она побежала наверх, а Сид и Мэри следовали за ней по пятам. И лицо её меж тем побледнело, а губы дрожали. Добравшись до кровати, она ахнула:
– Ты, Том!? Том, что с тобой?
– О, тётушка, я…
– Что с тобой… что с тобой, дитя моё?
– Ох, тетушка… у меня болит… палец на ноге!
Пожилая дама бессильно опустилась в кресло и прыснула, потом заплакала, а потом сделала и то и другое вместе. Это восстановило её потрясённые скорбным известием силы, и она сказала:
– Том, какое испытание ты мне устроил! Том! А теперь заткнись и вылезай оттуда!
Стоны прекратились, и боль в пальце ноги, похоже, исчезла. Мальчик почувствовал, что попал в довольно глупую ситуацию, и сказал:
– Тётя Полли, мне показалось, что это так опасно, и мне было так больно, что… я совсем забыл про больной зуб!
– Больной зуб? Что стряслось с твоим зубом?
– Он болтается, и болит ужасно!
– Ну-и-ну, ну же, ну, Том, прекрати свои дурацкие стоны! Мигом открыть рот! Ну, да, зуб у тебя болит, но ты от этого не помрёшь! Мэри, принеси мне шёлковую нить и горящую головню из кухни!
Том взмолился:
– О, пожалуйста, тётушка, не рвите его! Мне уже совсем не больно! Чтоб я сдох, если у меня болит зуб! Пожалуйста, не надо, тётя! Я уже не хочу оставаться дома! Я всё равно пойду в школу!
– Пойдёшь в школу? Чего тут не понятно? Значит, весь этот скандал был из-за того, что ты решил остаться дома и вместо школы пойти на рыбалку? Том, Том, я так тебя люблю, а ты, кажется, всеми силами стараешься разбить моё старое бедное сердце своим безобразными выходками!
К этому времени зубные инструменты были наготове. Старушка завязала петлю на зубе Тома, а другой конец нити привязала к стойке кровати. Затем она схватила кусок горящего полена и внезапно сунула его почти в лицо мальчику. Зуб остался болтаться на столбике кровати.
Но все бедствия, случающиеся в жизни, как правило, имеют оборотную сторону. Когда после завтрака Том шествовал в школу, ему завидовали все мальчишки, которых он встречал по пути, потому что щель в верхнем ряду зубов позволяла ему по-новому и восхитительно плевать на дорогу. Он собрал довольно много поклонников нового способа, готовых идти на край света, только бы посмотреть, как можно плеваться, и его главный конкурент – мальчик с порезанным пальцем, который был до сих пор центром всеобщего восхищения и почитания, теперь внезапно оказался без приверженцев и мгновенно лишился своей славы. На сердце у него стало тяжело, и он сказал с поддельным презрением, что плевать так, как Том Сойер – любому по плечу, но другой мальчик сказал, презрительно ухмыльнувшись: «Зелен виноград!» и новоявленный изгой побрёл прочь согнувшись, как поверженный в прах лузер и чмо.
Вскоре Том наткнулся на молодого деревенского парию, Гекльберри Финна, сына известного городского пьянчуги. Гекльберри ненавидели и боялись все матери в округе, потому что он был лентяй, хулиган, дурак, неряха, свинья и подонок, и вероятно поэтому все их дети страшно восхищались им, радовались его запретному обществу и все до одного желали походить на него. Том же был похож на остальных мальчиков из приличных семей, и тоже втайне завидовал Гекльберри и его статусу отверженного всеми изгоя, хотя ему строго-настрого запретили видеться и играть с ним. Поэтому Том был горазд играть с ним всякий раз, когда у него была хоть малейшая возможность. Гекльберри был всегда одет в старые, развевающие на ветру обноски с чужого плеча, должно быть, это были вещи какого-то взрослого дяди, испещрённые пятнами, порезами и большими цветастыми заплатами. Его шляпа представляла собой огромную развалюху с широким полумесяцем, торчащим из полей; его сюртук свисал почти до пят и имел задние пуговицы в акватории заднего места, причём его старые брюки героически поддерживала только одна подтяжка, а седалище брюк отклячивалось и отвисало, как мешок. Общую картину завершала расхристанная бахрома штанин, волочившаяся по грязи, когда не была подвёрнута на ноге.
Гекльберри был вольной птицей. Он всюду появлялся и отовсюду исчезал по собственной воле. В хорошую погоду он спал на пороге чужих домов и в пустых сараях, в сырую погоду ночевал в пустых бочках; ему не нужно было ходить в школу или в церковь, не нужно было сллушаться учителей или подчиняться кому-то; он мог ходить на рыбалку или купаться, когда и где ему вздумается, и оставаться там, где ему заблагорассудится; никто не запрещал ему драться; он мог сидеть на одном месте так долго, как ему вздумается; он всегда был первым мальчиком, который ходил босиком весной и последним, кто влезал в башмаки осенью; ему никогда не приходилось ни мыться, ни надевать чистое бельё; и наконец, он умел ругаться так чудесно, как никто. Одним словом, ему принадлежало всё, что делает жизнь мальчика драгоценной. Так думал каждый измученный, стесненный школой и приличиями любой приличный мальчик в Санкт-Петербурге.
Том поприветствовал романтического бродягу:
– Привет, Гекльберри!
– Здравствуй и ты, коли не шутишь! Посмотрим, как тебе это понравится!
– Что это у тебя?
– Дохлая кошка!
– Дай мне взглянуть на неё, Гек! Боже, она уже задеревенела! Где ты её надыбал?
– Купил у одного парня!
– А что дал за неё?
– Синий билет и бычий пузырь, который я украл на бойне!
– Откуда у тебя синий билет?
– Купил его у Бена Роджерса две недели назад за обруч с палкой!
– Слушай, Гек, а на что годятся дохлые кошки?
– Как это на что? А бородавки чем сводить?!
– Нет! Не может быть! Есть средства получше!
– Спорим, нет? И что это?
– Гнилая вода!
– Сам ты гнилая вода! Ничего твоя гнилая вода не сводит!
– Откуда ты знаешь? Ты когда-нибудь пробовал?
– Не я, а Боб Таннер!
– Кто тебе это сказал?
– Ну, он сказал Джеффу Тэтчеру, а Джефф сказал Джонни Бейкеру, а Джонни сказал Джиму Холлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал негру, а негр сказал мне. Ну, вот и всё!
– Ну и что из того? Они все лгуны! По крайней мере, все, кроме негра! Я его вообще не знаю! Но я никогда не видел негра, который бы не лгал! Чушь это всё! А теперь расскажи мне, как Боб Таннер это делал, Гек!
– Ну, он взял и сунул руку в гнилой пень, где была дождевая вода!
– Днём?
– Само собой!
– Лицом к пню?
Утвердительный кивок.
– А то как же ещё!
– Он что-нибудь сказал?
– Не знаю! Вроде ничего! Я не знаю!
– Ага! Ещё бы тебе удалось свести бородавки с помощью гнилой воды таким идиотским методом! Пользы от этого ноль! Ты должен пойти совсем один, в самую лесную чащобу, где у тебя на примете есть пень с гнилой водой, и как только наступит полночь, прижаться спиной к пню, протянуть руку и прошептать:
«Ячмень-ячмень! Загнивший пень!
Гнилая вода! Бородавки – сюда!»,
а потом тикай оттуда, одиннадцать шагов – с закрытыми глазами, а потом трижды повернись кругом и вали домой, ни с кем не базаря. Потому что, если ты скажешь хоть слово, заклинание не подействует!
– Ну, это звучит клёво, но Боб Таннер делал не так!
– Ну, в этом, старик, я сомневаюсь! Потому что у него больше бородавок, чем у кого бы то ни было в городе, а могло бы вовсе не быть, если бы он знал, как обращаться с гнилой водой. Гек! Я так уже свёл с рук тысячи бородавок! Я часто вожусь с лягушками, что у меня всегда чёртова куча бородавок! Иногда я свожу их и с помощью боба!
– Да, боб классный! Я уже пробовал! И у тебя бородавки водятся? А ты как с ними?
– Ты берёшь и раскалываешь боб на две половинки, и режешь бородавку, чтобы было немного крови, а потом мажешь кровью одну половинку боба, и берёшь, и роешь ямку, и закапываешь эту половинку в полночь на перекрестке дорог в полнолуние, а вторую половинку боба сжигаешь. Оп – и всё! Понимаешь, та половинка, на которой есть капля крови, будет продолжать тянуть к себе другую половинку, у них всё так, и это помогает крови найти бородавку, и тогда очень скоро она отвалится!
– Да, так оно и есть, Гек, так оно и есть, хотя, когда ты будешь хоронить боб, ещё нужно к тому же причитать «Зарыл боб, бородавка – долой! Иззыди, фигня, иди от меня!» Так-то будет лучше! Именно так поступает Джо Харпер, а уж он доезжал почти до Кунвилла и был почти везде! Но скажи, как это лечить бородавки дохлой кошкой?
– Ну, ты берёшь свою дохлую кошку и идёшь с ней на кладбище, всё это в полночь, когда хоронят какого-нибудь мерзкого нечестивца, а когда наступает полночь, приходит дьявол, а может быть, их два или три штуки, но ты их не видишь, только слышишь нечто вроде шуршания или ветра или, может быть, слышишь, как они разговаривают шёпотом, и когда они начинают волочь этого чувака в ад, ты протягиваешь им вслед свою дохлую кошку и говоришь: «Дьявол – за трупом, за дьяволом – кот, ты, бородавка, ступай в оборот, за котом иди гуртом, тут тебе и конец!» Эта присказка снесёт любую бородавку!
– Звучит классно! Ты когда-нибудь такое пробовал, Гек?
– Нет, но так мне говорила старуха Гопкинс!
– Ну, тогда я думаю, что всё о-кей! Потому что все говорят, что она ведьма!
– Ну, ты и даёшь! Говорят! Ха! Я точно знаю, что так оно и есть! Она навела порчу на моего папашу! Папаша сам говорил! Однажды он шёл и увидел, что она на него порчу наводит, тогда он взял камень, и если бы она не увернулась, он бы её точно убил! Ну, и в итоге он в ту же ночь свалился с сарая, где лежал вдупель пьяный, и сломал себе руку!
– Какой кошмар! И как он узнал, что она напускает на него порчу?
– Боже мой, страсти какие! Мог бы и сам догадаться! Папаша говорил, что когда они впериваются в тебя таким особым, угрюмым, пристальным взглядом, начинают просто пялится в твои глаза, это значит, что они тебя охмуряют и напускают на тебя порчу. Особенно если они при этом что-то бормочут и сопли пускают. Потому что, когда они бормочут, они всегда произносят молитву «Отче Наш», да только эта молитва у них шиворот-навыворот!
– Слушай, старик, когда ты собираешься испытать кота?
– Сегодня вечером! Я думаю, ночью они придут за старым прощелыгой Уильямсом!
– Но они его ведь в субботу похоронили! Разве они не уволокли его ещё в субботу вечером?
– Ох, что ты несёшь!? До полуночи они его не могли прибрать, а потом, бац, наступило воскресенье. Мне кажется, черти не слишком любят шастать по кладбищам по воскресеньям!
– Мне такое в голову не приходило! Ладно! Можно я пойду с тобой?
– Конечно, если не струсишь!
– Я? Струшу? Никогда! Мяукни мне!
– Да! А ты мяукни в ответ! Только слушай ушами! В прошлый раз я столько раз тебе мяукал, что весь охрип от этих мяу, пока старина Хейз не стал швырять в меня камнями и не заорал: «Чёрт бы побрал этого облезлого кота!», и мне пришлось швырнуть ему в окно кирпич! Никому не говори об этом!
– Я не мог мяукать в ту ночь, потому что тётя следила за мной, как бешеная, но теперь я точно мяукну! Слушай! Что это такое?
– Где? Ничего! Просто клещ!
– Где ты его взял?
– Там, в лесу!
– Что хочешь за него?
– Хох! Понятия не имею! Такое не продаётся!
– Ладно! Мелкий он какой-то! Почти не видать!
– Ох, любому нравится ругаться на такого клеща, когда он – не его! А по мне он просто великолепен! Вполне приличный клещ по мне!
– Да уж! В лесу полным-полно клещей! Я мог бы набрать их там целую кучу, если б захотел!
– И за чем дело стало? Ничего ты там не найдёшь! Ты прекрасно знаешь, что ничего не найдёшь! Их ещё нет! Вот в чём фишка! Это самый ранний клещ! Первый клещара, которого я выловил в этом году!