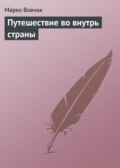Марко Вовчок
Игрушечка
Вечером вижу, француженка манит меня из дверей к себе. Иду. Она меня по щеке потрепала и дает мне старенькую ленточку, а сама шепчет: «Слушайся меня, я тебя буду дарить». А я молчу. «Ты всегда с барышней?» спрашивает. «Всегда». – «Как же вы играете, что барышня любит?» – «Разговаривать любит». – «Как так?» – «Любит, говорю, чтоб рассказывали ей все, а она чтоб слушала». – «Хорошо, хорошо, – шепчет мне, – говори мне все, что знать будешь, я тебя всем обдарю. Смотри ж, никому о том не скажи». И махнула рукой: «Иди». Я пошла от нее, да и думаю себе, барышнины слова вспоминаю, что каких-то людей на свете нет!
На другой день француженка в такие рассказы пустилась; без умолку говорит, говорит – барышня слушает и все к ней ближе подвигается… Что долго рассказывать? В месяц она барышню совсем в руки взяла; слова ее слушается барышня, не отходит от нее. Господа радуются себе, что барышня повеселела, не знают, как им Матильду Яковлевну благодарить и чем; то и дело ей подарки, а Матильда Яковлевна руки к груди прижимает да приседает перед ними. Скоро она прибрала к рукам и барыню и барина: ее обо всем спрашивают, с ней обо всем советуются.
Арину Ивановну точило горе: невзлюбила она француженку, а видела, что та всем домом вертит и даже ее ненависти не замечает, а ненавидела ее Арина Ивановна всей своей душой; походку ее заслышит – изменится в лице. Да уж не прежняя немочка безответная это была, чтоб ее постным силой кормить – нет! с этой шутки плохие. Она сейчас к барыне и этак, шутя да смеясь, все расскажет, – веселехонько, хоть у самой на сердце кошки скребут. И зовут Арину Ивановну к барыне. Арине Ивановне выговор…
А мое житье какое было? Хоть по-прежнему я была при барышне, да уж была я одна-одинешенька; барышня совсем меня бросила, все с француженкой, все с Матильдой Яковлевной, а я с утра приду, простою у притолоки день целый, так меня и не вспомнит никто. И Арина Ивановна, и та пренебрегла тогда мной; она не заметит, стукну ли я, войду ли, не то чтобы, как прежде, надзирать за мною, следить. Правда, что она стала не такая нападчивая, – задумчива ходила и сурова, а тиха. То я, бывало, с барышней поговорю, то от Арины Ивановны стерегуся, а тут я осталась уж совсем ни при чем. Сердце мое очень ныть стало… что некуда и не к кому мне пристать на всем свете белом… Сижу в каком-то я раз полусно и слышу, кличет Матильда Яковлевна и дает мне в руки свою шкатулочку. «Хочу, чтоб починили хорошо!» – говорит и показывает, что уголок отклеился. Я схватила эту шкатулочку обеими руками, да никого не спрашиваючи, опрометью, через сад, к столярной. У самой сердце стучит, вот будто я из темницы вырвалась. Бегу, бегу, а прибежала к дверям и оробела. Тихонько двери отворяю – вижу, там человек пять на работе: кто стругает, кто пилит, кто меряет; по окнам везде стружки, на полу тоже стружки ворохами навалены. Все ко мне обернулись, все на меня глядят: «Что ты? зачем ты?» Я показываю им шкатулочку. «Андрей, а Андрей!» – стали кликать, и вижу, высокий человек из боковой горенки выходит… Я его сейчас узнала, вспомнила, как он мне говорил: «Бедная ты девочка завезенная! выздоравливай-ка ты скорей!» Все такой же он был, и веселый, и кудрявый, и ласковый. И он меня узнал. «Ишь, как выросла, сказал, ну расти себе, расти!» А другие у меня шкатулочку уж взяли, ему показывают, разглядывают, спорят. Один там, бойкий такой, все он стоял подбоченившися. «Я, говорит, могу и получше этакой сделать».
А ему другие: «Да ты и такой не сделаешь!» – «Лучше сделаю!» Спорить опять начали. Андрей мне говорит: «Приди завтра за шкатулочкой, будет починена». – «Можно мне стружечку взять?» опрашиваю. Он захватил полны руки тех стружек, да и обсыпал меня всю ими…
И целый день все я после думала, что вот завтра я опять пойду туда, и что завтра мне Андрей скажет, усмехнется ли, глянет ли, или он меня не заметит за работой?..
Ходила я, и он меня приветно опять встретил и сказал: «Собраться надо да тебе игрушечку какую сделать!» С той поры так меня и тянет туда, да не смею и скучаю. И что сделала. Держу я раз барышнину игрушку – барин ей привез домик, совсем настоящий домик, – верчу я тот домик да думаю: «Домик, домик! что бы тебе изломаться-то! а меня послали б чинить отдавать, и я б побежала… Что бы тебе, домик, рассыпаться!» а домик – хруп! да и рассыпался. Перепугалась я тогда. Не так барышни боялась, а что достанется от Арины Ивановны, что от Матильды Яковлевны будет. Стрелой я пустилась прямо к Андрею. «Что такое? Что?» спрашивает, а на мне лица нет. «Не бойся, не бойся, я починю, никто не узнает. Ах ты, бедненькая, как перелугалася!» Смеется…
Живем так-то, каждый с своею заботой, и вдруг замечать стали, что барышня совсем нравом изменилась, и опять на нее стало находить. То она от Матильды Яковлевны шагу не отступала, а то сторониться стала. Перестала ее расспрашивать, почти и говорить с ней перестала. Подаст урок, да и молчит целый день. Хочу, бывало, я к ней подойти, да не смею, боюсь Матильды Яковлевны, а барышня сама не позовет и, словно она никого около себя не замечает, сама с собою шепчет.
Матильда Яковлевна совсем не та стала к барышне, суровей и строже; уж не то чтоб у барышни ручки целовать, как сначала, она уж и прикрикивать на нее стала. Как прибрала она господ к рукам, то ничего не боялась. Барышня долго терпеливо все переносила, что я только дивлюсь, а Арина Ивановна божилась, что француженка околдовала барышню. Спрашиваю я: «Барышня! очень вы Матильду Яковлевну любите, что вы все от нее сносите?» – «Игрушечка! – отвечает мне: – она рассказывает так хорошо и много, много всего знает. Может, она мне еще расскажет что…» И все сидит около Матильды Яковлевны, и тихо ждет, и тихо вздыхает… Матильде Яковлевне она надоела скоро; стала она от себя прогонять ее и стала над нею подсмеиваться… Раз Матильда Яковлевна уж очень с ней дерзко обошлась, накричала, набранила, и было барышнин нрав прежний проявился: вспыхнула она и заговорила так, что Матильда Яковлевна струсила и все в шутку обернуть захотела.
Барышня от нее отвернулась и ушла. Не говорит она с того часу с Матильдой Яковлевной, не подходит к ней. Матильда Яковлевна хоть спокойный вид на себя принимает, а крепко тревожится и все у меня выпытывает: «Что барышня? что говорила? С кем говорила?» Я вижу; что и барышня не спокойна: ухожу я от нее поздно вечером – не спит, ранним утром застаю – не спит. «Барышня! говорю, чего заботные такие?» – «Тяжело мне!» ответила. «Матильда Яковлевна вас огорчила?» И она опять: «Тяжело мне, Игрушечка!» Прошло сколько дней. Все барышня в тоске, и все, видно, душа ее волнуется. Одним утром прихожу, застаю, что она уже совсем одета, стоит подле окна. А лицо у нее было тогда такое, словно она кого одолела или решилась, пошла на что. Быстро ко мне обернулась и спросила: «Матильда Яковлевна встала?» – «Нет еще», говорю. «Скажи мне, как встанет, сейчас же скажи, Игрушечка!» Я пошла, дождалась, пока Матильда Яковлевна встала, прихожу и говорю. Она изменилась в лице. Постояла середь горницы и пошла прямо к Матильде Яковлевне. Та сидела, чай в своей горнице пила около столика. Удивилась очень приходу раннему и пытливо глядит. Тихо подошла к ней барышня и тихо села около нее на скамеечке, как прежде садилась ее рассказы слушать, и сама так глядела она на Матильду Яковлевну, словно и корилась ей, и просила, и ласкалась… У Матильды Яковлевны глазки сверкнули – обрадовалась, только радость свою скрыла и едва глянула на барышню. Стала ей выговаривать и попрекать; барышня все белей да белей становится и молчит. Замолчала и Матильда Яковлевна сердито. Пыталась барышня с ней заговорить и такие тихие да ласковые ей слова говорила… Матильда Яковлевна все-таки ей надменно отвечала и грубо так… Приехали гости, за Матильдой Яковлевной прислали, она с собой барышню кликнула; та за нею покорно пошла. Гости спрашивают, чего это Зиночка изменилась?
И господа тогда вдруг перемену увидели, встревожились. Матильда Яковлевна берет барышню за руку и середь гостиной ее выводит и давай рассказывать: что вот какая Зиночка упрямица была, да теперь сама хочет исправиться, вот сегодня прощения просила… «Да?» – спрашивает у барышни. Та чуть слышно что-то сказала; бледна она стояла и вся дрожала. Хотела уйти – Матильда Яковлевна не пустила, около себя посадила. Гости все стали тогда барышню хвалить, целовать, стали советы ей давать. Господа радуются, а Матильда Яковлевна все говорит им: «Да, вы недаром свою Зиночку на мои руки отдали!» Сказал ли кто слово лишнее или чем другим обидел барышню, только она пришла из гостиной словно больная и очень долго плакала… С этого дня отшатнулась она от Матильды Яковлевны навсегда, навек…
Спохватилась тогда Матильда Яковлевна. Давай заискивать, всячески ухаживать, ублажать – ничего уж не помогло: только, бывало, посмотрит на нее барышня так, что будто и жалеет ее и брезгает ею… Матильда Яковлевна боялась, чтобы господа печали барышниной не заметили, чтобы не вздумала барышня на нее жаловаться…
Барышня не жаловалась, только еще стала она задумчивее, очень поскучнела и часто плакала. И плачет, бывало, уж не по-прежнему, с криком да с сердцем, тихо себе плачет да горько… Все это замечала Арина Ивановна, и уж не раз она к барышне тайком пробиралася; ручки у ней целует. «Я ваша слуга верная, я!» – все твердит, а та и слушает и не слышит.
– Чего вы всё не веселы, все скучаете? Замучила вас, видно, ученьем-то, мое сокровище? – говорит барышне.
– Да я ничему не выучилась и ничего не знаю, как же замучила? – ответит печально.
– Ах она, ехидная! – воскликнула Арина Ивановна: – сколько времени учит, а ничему не выучила! Да она нарочно ученье тянет, чтобы побольше поживиться от папеньки, от маменьки… Да она обманщица лукавая!
И, верно, ее слова барышне западали в душу, все она печальней становилась. «Игрушечка! – часто говаривала, – никто нам правды не скажет истинной! Вот как, Игрушечка!» Матильда Яковлевна все видела, все знала, как Арина Ивановна барышне нашептывала, как к ней тайком прокрадывалась, видела, а молчала, будто не до нее дело, и весела была всегда и говорлива; хоть часто, бывало, с сердцов у самой ручки дрожат, а улыбается и глазки щурит ласково…
Минуло барышне четырнадцать лет. Тут уж и все стали замечать, что она умом мешается… забывать стала имена… Особенно начала она мешаться, как побывала на похоронах. Умерла в соседстве богатая барыня, и весь околоток зван на похороны. Пышно ее хоронили – такой ее последний завет дан детям, – и наши господа были и барышню с собой брали… Только она приехала, я сейчас заметила, что глаза у ней нехороши. «Игрушечка! – шепчет мне, – ты видала мертвых?
Понимаешь ли, что значит умереть?» Я хочу о другом заговорить, она меня не слышит и все себе твердит одно: «Живет человек, умирает человек; все живут, все умирают». И кто к ней ни подойдет, она всем одно и то же… Ничем ее нельзя отвлечь от мысли той, ничем рассеять. Господа тогда перетревожились, послали за лекарем. Лекарь говорит: «Помешана». Помешательство, ее было тихое; иногда она как будто и в себя приходила. Слез ничьих не могла видеть, вся побледнеет, бывало, задрожит. Я ей говаривала: «Не тревожьтесь, барышня; со всеми горевать не станет вас». – «Игрушечка! – отвечала мне: – когда плачет человек, ты знаешь ли, как ему больно! А я знаю! я знаю, как больно!» Мало ей лекарством помогали. Стала она всех дичиться; потом стала от всех бегать, – тоска у ней безотходная была, ныла она да чахла. Перестала узнавать – ни отца, ни матери не узнавала. Кручинились господа. Громко Матильда Яковлевна вздыхала. Соседи приезжали проведывать, смотрели на нее из-за дверей, жалели, а она стоит середь горницы, думает, думает, словно хочет что-то припомнить, да не дается ей, и в муке великой она за голову берется… А то плачет горько, горько плачет по целым часам. Спрашивай – не ответит, не заметит или испугается – убежит. С горя по барышне и барыня хворала это время. Матильда Яковлевна все около нее, утешала, успокоивала, а я при барышне. На моих руках она и умерла…
В розовый бархатный гроб положили ее, сухонькую, худенькую, и такое у ней было личико заботное, такое печальное – вот, кажись, большие глаза откроются и в сомненье она станет спрашивать о чем-то…
После барышниной смерти барыня меня за собою ходить приставила. «Она за Зиночкой ходила – я хочу, чтобы она и при мне была». А время своим чередом пошло, стали привыкать, слезы высохли, только вздохнут о барышне, как вспомнят, да поскорей речь о другом заводят, повеселей… Сняли черное сукно со стен: опять и шумно и весело в хоромах; опять господа обеды званые дают. Матильда Яковлевна все у нас живет, да и отъезжать, видно, не думает. Она с господами неразлучно; барыня только глаза откроет, уж Матильду Яковлевну кличет. Матильда Яковлевна и книжки вслух читает, Матильда Яковлевна и гостей забавляет, она ж их и осудит, и осмеет, и передразнит, как выпроводит. Вот это, бывало, по вечерам, если случится, что никого гостей нету, Матильда Яковлевна и почнет в разных лицах являться: то генеральшей войдет Чернихинской, ну совсем генеральша, так же и шаль по всему дивану распустит, чтоб никто рядом не сел, и посматривает так же строго на всех… то представит карачевскую барышню, что все вздыхает и платочком обмахивается… всех она, бывало, переберет, всех-то до единого. И очень господ этим утешала: так хохочут, что приходилось иногда обоих водой брызгать… А Арина Ивановна ночей не спит, в тревоге она да в сомненье: стала Матильда Яковлевна что-то часто в хозяйство вмешиваться, войдет к Арине Ивановне: «Дайте ключи!» – и, не дождавши слова ответного, возьмет сама и пошла по кладовым шарить. Барыне жаловаться было нечего, с каждым днем больше ее обходила Матильда Яковлевна. В обиде, в досаде, в тоске сидит себе одиноко в своей комнате Арина Ивановна; похудела и пожелтела; перестала к попадье в гости ездить, перестала и к обедне по воскресеньям ходить. С нами то вдруг ласковая такая, такая приветная, свои сны нам рассказывает, работой нашей не нахвалится, то вдруг раскричится, разлютуется, все не по ней, все нехорошо, грозится: и то и другое будет вам…
Если встретится с Матильдой Яковлевной лицом к лицу – всякое дело бросает, прочь бежит. А Матильда Яковлевна и не пускает, останавливает и своими словами ласковыми да приятными разобидит ее и до самого сердца доймет, а за обедом льстивым голосом спрашивает: чего задумалася? здорова ли?
Побелеют губы у Арины Ивановны, глухим голосом она за внимание благодарит, а Матильда Яковлевна усмехается да шейку вытягивает. «Что, что? я не расслышала, говорит, что?» И благодарит ее Арина Ивановна в другой раз за внимание… А то помню, как подошла она к Арине Ивановне и приласкала ее: «Милая моя!», а сама ее по плечу потрепала, глазки прищуря с улыбочкой. Задрожала вся Арина Ивановна, и дух у ней занялся, не может слова вымолвить, глаза черные засверкали – а та на нее глядит все усмехаючись да легонько по плечу ее треплет…