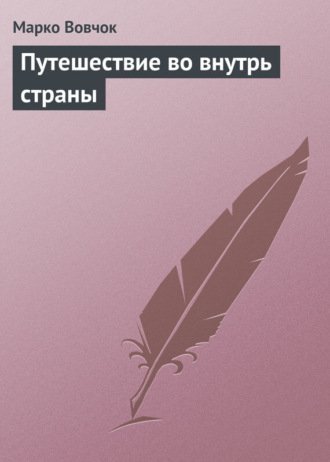
Марко Вовчок
Путешествие во внутрь страны
Amicus Plato, sed magis amica veritas
(Платон мне друг, но истина дороже всего – латинская пословица).
I. От Петербурга до Москвы
День жаркий, ветреный, удушливый. Повсюду пыль столбом. В вокзале Николаевской железной дороги шум и суета. По платформе бегают, словно на пожаре, роняют дорожные мешки, зонтики, пледы, перчатки, рассыпают запасенную в дорогу провизию. Два кренделька и печеное яйцо катятся к лаковым блестящим ботинкам какого-то пожилого щеголеватого господина, который отпрядывает от них, как от ядовитого змеиного жала. У иногородних путешественников, забравшихся сюда спозаранку и уже успевших сделать десятка два верст взад и вперед по зданию, на лицах ясно написано угрюмое неудовольствие; движения их порывисты, речь раздражительная. Некоторые (холерики) еще все ходят взад и вперед, хотя уже через силу, но большая часть уже окончательно умаялась, присели по скамейкам и беседуют. Они успели перезнакомиться друг с другом и ведут разные разговоры, пересыпая их едкими замечаниями о Петербурге.
– Ну уж Петербург, признаюсь! – говорит довольно округлый дворянин другому, сидящему с ним рядом на скамейке, менее округлому дворянину, который в ответ язвительно кривит рот и пожимает плечами.
– Ведь это, знаете… ведь это просто… Позвольте спросить, как имя и отчество?
– Владимир Ильич.
– Ведь это просто, Владимир Ильич… просто какое-то бесчеловечие! Лед-с, лед! Везде лед! Я к этому не привык, и я поражен! Никто тебя не замечает! Ведь решительно не замечает! Словно тебя нет.
– Меркантильный дух! Здесь важны туго набитые карманы, а не человек! – с прежней язвительностью замечает Владимир Ильич.
Третий дворянин, в мрачном расположении духа сидящий на соседней скамейке, перегибается в сторону разговаривающих и вмешивается в разговор:
– Люди, можно сказать, мельчают, вырождаются в таких центрах, как Петербург. Постоянно поглощенные мелкими заботами, они не имеют досуга углубиться внутрь себя, обозреть свой внутренний мир и сосредоточиться на задаче жизни.
Он говорит это плавно, протяжно, выдержанно, останавливаясь на запятых и точках, и тем благосклонным, но не допускающим возражений тоном, каким часто говорят привыкшие к почтительным слушателям магнаты-помещики. Он не говорит, а, так сказать, «глаголет».
Дворяне, к которым он обратился, по его манере глаголать тотчас же догадываются, что он немалая птица, и несколько торопливым хором бормочут:
– Да. да!. мельчают… вырождаются…
Наступает молчание и длится несколько минут.
Вбегают три иногородние путешественницы. Они одеты по последней петербургской моде, но, с непривычки, все на них топырится. Они беспрестанно обдергиваются. Шляпки у них несколько на сторону, глаза округлились до последней невозможности, дыхание прерывается. Они то мечутся из стороны в сторону, то толкутся на одном месте.
– Ах! – вскрикивает вдруг, точно уколотая иголкою, одна из них. – Где мой палевый платочек? Куда я его заложила? Ах! я его, верно, забыла там, на окне в гостинице! Поль, Поль, Поль! ты не видал его там?
– Кого? Кого? – тревожно спрашивает подбежавший с узлами Поль.
– Варя, ты не видала? Лиза, ты не видала? Ах! надо поглядеть, нет ли где… Ах, боже мой!
И все три путешественницы торопливо отпирают мешки и принимаются судорожно в них ворочаться, пока восклицание «вот он!» не кладет конца этому мучительному занятию.
Поль отходит несколько в сторону и тоже начинает проверять свой дорожный мешок и сумку.
Две другие иногородние путешественницы, давно уходившиеся от волнений и в изнеможении почти лежащие на балюстраде, отделяющей платформу от вагонов, услыхав, что соседи что-то потеряли, тоже принимаются отмыкать мешки, тоже лихорадочно в них роются, затем тревожно ощупывают свои карманы, пересчитывают деньги.
– Люба! пятидесяти не хватает! – с ужасом шепчет одна.
– Что ты! что ты! Пересчитай получше! – отвечает вспыхнувшая тревогой Люба. – Нет ли в кармане? Встряхни платок!
Встряхивают платок и снова пересчитывают деньги.
Скоро восклицание удовольствия показывает, что тревога фальшивая.
Из вокзала на платформу выбегает новый расстроенный отряд иногородних обоего пола, чрезвычайно живо напоминая «толпу взволнованных граждан», которая высыпает из-за кулис на сцену при драматических представлениях. Воспоминание о сценических «взволнованных гражданах» еще делается живее, когда раздаются хоровые восклицания, то резкие, крикливые, то сдержанные, шипящие.
– Опоздали! Опоздали! – хотя жалобно, но с достаточной яростью восклицает коренастая, черноглазая, по всем ухваткам властительная мать семейства, бесцеремонно поддавая в окружающие ее посторонние бока мощными локтями и стремительно порываясь вперед. – Я так и знала! Я так и знала!
– Я нарочно поставил по пушке! – доносится справа чье-то уверение. – Ей-богу, по пушке!
– Ах-ах-ах!
– Не толкайтесь!
– Невежа!
– Господи! наказание какое!
– Да еще час целый до отхода!
– Ах, извините!
– Боже мой!
– Понятно, что все стала забывать, – шипит злостный мужской голос, – наслушалась «женского вопроса»!
– Любинька! Любинька! – пронзительно, как свист в ключ, проносится материнский клич. – Оù êtes vous? Оù êtes vous?[1]
Остается всего полчаса до отхода поезда. На платформе давка и смятение так увеличиваются, что издали представляются только расколыхавшиеся волны разноцветных шляп, фуражек, шляпок, шапок и ярких вуалей.
Эти кипящие волны все чаще и чаще начинают перерезываться спокойными, хотя и быстрыми течениями петербуржцев и петербуржанок.
Истые петербургские жители спокойны, хладнокровны; все у них в порядке: и одежды, и физиономия. Они являются как раз вовремя, ловко, не спеша занимают лучшие места в вагонах, насколько возможно комфортабельнее усаживаются и смотрят из окон на мятущуюся по платформе толпу.
– Где наши вещи? – раздается в разных концах. – Билеты! билеты! Через двадцать минут отходит!
Толпа словно отливает к багажной. В багажных дверях начинается давка.
Очень молодой человек, отлично одетый, после тщетных усилий протиснуться сквозь стену прижимающих локтей и плеч вырывается, наконец, весь измятый, обратно на платформу, где очень раздражительно встречен тоже отлично одетой молодой дамой.
– Наконец-то! – говорит молодая дама. – Пойдем, уж, верно, все порядочные места заняты!
– Да я не мог билета на вещи получить!
– Как не мог получить? Как не мог… Это уж из рук вон! Это…
– Да что ж я буду делать? Меня чуть не задавили… Говорят: ждите очереди!
– Говорят: ждите очереди! – передразнила дама язвительно. – Вот наградил бог толком и умом! Donnez lui quelque chose![2]
– Mais…[3]
– Quoi «mais»? Donnez lui quelque chose, je vous dis![4]
– Je n'ose…[5] здесь не берут!
– Скажите пожалуйста! Это ты, верно, у своих Карасевых набрался таких идей?
Невозможно выразить на бумаге той глубины презрения, какую молодая дама влагает в «Карасевых».
Очень молодой человек вспыхивает, как зарево.
– Я пойду… – говорит он, – я пойду еще попробую… может, уж очередь…
Но молодая дама безжалостна.
– Конечно, – говорит она, – никто не мешает следовать по стопам Ка-а-а-рра-ссее-вых!. Ха-ха-ха! К-а-р-а-с-е-в-вы!
У злополучного последователя Карасевых даже уши пунцовеют. Со слезами на глазах он бормочет:
– Я не понимаю… я не понимаю, к чему тут примешивать людей… людей… которые… которые…
– Конечно, никто не мешает! – продолжает молодая дама, не удостаивая заметить кроткого и смущенного представления. – Но, мне кажется, следовало бы немного помнить, чем кому обязан. Если живешь в чьем доме, так, мне кажется, можно, не говорю из благодарности, а хоть из приличия, время от времени пожертвовать карасевскими идеями! Наконец, можно хоть не вмешиваться! Кто просил отсылать человека? Он бы все мне сделал! Но, по милости карасевских идей, я теперь опоздаю на поезд! Опоздаю к 17-му! Надо будет возвращаться опять к тетеньке, и за чаем она опять будет подсмеиваться, как провинциалы опаздывают! По милости карасевских идей…
– Помилуй, кузина…
– Карасевы приказали трудиться! Ах, прелестно! Как почетно таскать самому чемоданы! C'est très gentil![6] Ах, да! они все занимаются переноской чемоданов!
– Я не понимаю… к чему… к чему тут… тут чемоданы? – бормотал кузен.
Он задыхается.
– И дамы тоже? – презрительно щурясь, произносит кузина. – C'est charmant![7] Нет ли их карточки с чемоданом на плечах? Они не дарят таких видов своим поклонникам?
Она, не замечая того, все более и более возвышает голос.
– Кузина!.
– Medames Карасевы…
– Они хорошие люди! – чуть не с рыданием шепчет кузен. – Они хорошие люди…
Его всего трясет, но кузина заливается язвительным хохотом.
– Ка-ра-се-вы… – начинает она, с каждым слогом делая все более и более презрительное ударение.
– Лучше пошлых гвардейцев! – почти вскрикивает потерявший над собою власть кузен, кидается в толпу, отчаянно пробивает ее и исчезает в багажной.
На несколько мгновений кузина немеет от изумления и остается неподвижна, как бы окаменев от неожиданного удара. Затем она начинает приходить в себя, и, по мере того, как она в себя приходит, ее лицо начинает искажаться злостью. «Как он смел! Как он смел мне так говорить! А! хорошо! Увидим!» – так и читается в каждой черте.
Вдруг к ней приближается молодой человек, плохо одетый, дурно причесанный, без перчаток. Руки у него загорелые, походка твердая и осанка решительная.
Он останавливается перед гонительницею Карасевых и пристально на нее глядит. Она окидывает его с головы до ног беглым взором и небрежно отвертывается: он, видимо, произвел на нее впечатление невыгодное и причислен ею к классу «Ничто».
Но приблизившийся Ничто отнюдь не смущается и, наклоняясь к ней, спокойно говорит:
– Вы, прекрасная дама, сейчас высказывали свое мнение о Карасевых. Я желаю высказать свое мнение о вас.
На лице прекрасной дамы изумление быстро сменяется страшным испугом.
«Карасев!» – думает она, оглядывается во все стороны умоляющими о выручке глазами и несвязно бормочет:
– Я не высказывала… я только так… Это кузен… он всегда меня… всегда вводит в… в заблуждение… Я не знаю Карасевых… – Теперь уже в Карасевых не влагается презрение, а, напротив, некоторая почтительность, – я даже их не видала!
– Я тоже их не знаю и не видал, – отвечает молодой человек с решительной осанкой, – но это нисколько не помешает мне выразить моего мнения о вас, прекрасная дама.
Прекрасная дама трепещет, как лист, и ждет чего-то ужасного.
– По-моему мнению, вы дура, прекрасная дама! – говорит молодой человек.
Она, правда, ожидала чего-то ужасного, но все же не этого. Она глядит на него дикими глазами.
– Вы дура, прекрасная дама, – повторяет молодой человек тоном глубокого убеждения и отходит.
Она тем же диким взором провожает его.
Вылетевший из багажной кузен, очевидно, успевший уловить последнюю фразу, замирает на месте.
Стоящие и сидящие поблизости переглядываются, перешептываются, хихикают.
Вдруг прекрасная дама оглядывается кругом, приходит в себя, соображает и, если можно так выразиться, в бешеном изнеможении снова опускается на скамейку.
Картина.
Но ее поглощает нахлынувшая струя немецкого элемента.
Немки, даже петербургские, отличаются суетливостью (исключая баронесс и графинь, которые представляют поистине изумительную деревянность), но суетливость у них особенная, так сказать, аккуратная.
Вот бежит по платформе соотечественница, обремененная всего шестью-семью узелками, и она уж теряется, роняет то то, то другое, устремляет на вас дикие взоры, как будто соображая, не потерянная ли вы ее дорожная принадлежность, тоскливо охает, зовет носильщиков – вообще, видимо, не сумеет без счастливой случайности выйти из беспомощного положения и, прежде чем доберется до своего места, испортит себе бог весть какое количество крови и уходится до полусмерти.







