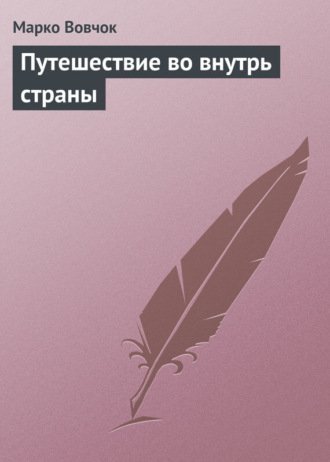
Марко Вовчок
Путешествие во внутрь страны
«Москвич» наклоняется к своей соседке, «дитяти пышной Украйны», причем глаза его снова умасливаются, и говорит ей:
– Люблю русского московского человека! Как он умеет резать матушку правду! Какой у него глубокий смысл!
«Дитя роскошной Украйны» ему не отвечает, восхищения «глубоким смыслом русского московского человека» не выказывает, закутывается в шаль и отодвигается как можно подальше.
– В первобытное время-с, – продолжает купчик все с тою же улыбкою, – заключали так, чтобы Москве учиться у Петербурга большим спекуляциям, а теперь уж, пожалуй, что и Москве-с можно Петербургу уроки и наставления давать-с… Москву теперь не проведешь – шабаш! Вот еще недавно было дело важнейшее-с! Угодно, я вам расскажу весь анекдотец?
– Расскажите, очень обяжете, – отвечает черноглазая девица.
– Извольте слушать-с. Есть у нас в Москве богатейший купец, первый торговец по бакалейной части-с. Жил он всегда благополучно, и все его душевно почитали-с. Дела, разумеется, он вел большие-с, и кредит ему был полнейший. Вот он задает обед всем своим побратимам-с. Все с удовольствием едут-с. Обед пышнейший: вина там этакие заморские, торты и блимаже[12] разные – словом сказать, все, как надлежит богачу-с.
Москвич опять наклоняется к «дитяти пышной Украйны» и шепчет ей:
– Слышите, как говорит? Ведь это своего рода Гомер!
«Дитя пышной Украйны» опять ничего не отвечает, но отодвинуться ей уже некуда.
– Ну-с, обедают все в полном удовольствии-с и пьют за здоровье-с. И вдруг хозяин встает-с и говорит гостям-с:
«Слушайте, гости мои: я каяться буду! Судите меня!»
Все этак усмехаются-с, ожидают, что ему угодно потешить их, побалагурствовать. Кто побойчее, тоже шутки подводят.
«Кайтесь, – говорят ему, – кайтесь, батюшка! Мы суд над вами сию минуту нарядим!»
А он вдруг это в слезы-с! И закрывается этак рукавом-с, и рыдает-с… Все так и помертвели-с, слов не находят, только на него в беспамятстве глядят-с… А он только слезами, знай, заливается да время от времени себя этак рукой в грудь-с…
Наконец, приходят в чувство-с…
«Что такое? Что такое?»
«Я, – говорит с рыданьями-с, – я банкрот! Сажайте меня в темную темницу! Простите меня, – взмаливается-с, – простите окаянного грешника: я всех вас подвел!»
И становится это на колени-с… И руки к ним простирает-с… И весь дрожит-с…
А кредит у него, как я вам уже докладывал-с, полнейший был, и всем он им задолжал, кому десять, кому пять, кому пятьдесят, может, тысяч…
Ну, все, постигаете-с, и поражены, и разнежены, потому были подвыпивши к этому факту-с. Все его поднимать с колен берутся, обнадеживают…
А он показывает на стены и на шкафы – дом у него, доложу вам, как есть чертог-с! – и рыдает этак жалостно-с:
«Все это уж не мое! Все уж продал! Думал, вывернусь!»
Ну, и так он это плакал и скорбел-с, что всех их прошиб. Кто если и поворчал, так только так, для торгового порядка-с…
«Москвич» снова обращается к «дитяти пышной Украйны» и шепчет ей с волнением:
– Да! Вот наши купцы, которых так обвиняют в неразвитости, выставляют в смешном виде нынешние остроумники! Нет! сердце у них, как у народа русского, православного, золотое! Эта патриархальность, которая так смешит бессодержательных модников и модниц, скрывает под собой глубокую струю братской – святой братской любви!
Купчик оглядывается на него, прислушивается, видимо, не вполне разбирает смысл его монолога, улыбается как-то двойственно – и москвичу одним концом губ, и своей собеседнице другим – и продолжает:
– Одначе своего добра всякому жаль-с. И все по этому случаю огорчены-с и думают: неужли никакого способу спасенья нет?
Он это понимает-с и говорит им:
«Други мои, – говорит, – и благодетели! Вы меня, обманщика и разбойника, милостями обсыпали. Какая я ни на есть тварь, а забыть я этого не могу: я возьму посошок нищенский и пойду в Киев, к святым местам. Я отрекаюсь от мира. Людским подаянием буду питаться. Омочу слезами моими черствую корочку и поживлю тем свою грешную душу!»
Долго он это еще вавилоны водил-с и, наконец, объяснил им, что есть еще у него малая толика в спрятном местечке и что желает он ее им разделить полюбовно, по-братски.
«Не знаю, – говорит, – сколько придется на брата, – мало, очень мало!»
И начинает высчитывать им, кому он должен. И просто страсть выходит-с! И тому, и другому-с, и пятому, и десятому, и сотому-с. Просто, значит, придется на брата по копейке по медной-с. Выходит, не уплата-с, не процент-с, а один только смех-с…
Ну, они, разумеется, недовольны-с. Начинают ему пенять-с, что нас, дескать, равняешь со всеми прочими, а мы, дескать, и любили тебя больше, и одолжили больше.
Ну, а он берет себя этак за голову-с и начинает безумствовать-с. И безумствует-с.
«Я, – кричит, – погиб! Я грабитель! У меня голова стеклянная, я ее разобью!» И ну биться головой-с. И все это так досконально, словно на лучшем театре-с.
Они его за руки-с, они его водой поить и брызгать. Тогда он еще пуще рыдать принимается-с, и опять на колени пред ними падает-с, и кричит-с:
«Я ваш раб! Приказывайте! Что прикажете, то и исполню!»
Они и приказывают ему, что, дескать, плати ты нам одним, раздели крохи между нами.
«А те-то? – он их спрашивает. – А прочие-то несчастливцы? Ведь я их погубил! Ведь за них меня бог накажет!»
Ну, споры по этому обстоятельству были-с и разные морали-с. И долго он все не соглашался-с, даже до поту лица их довел-с… И тогда уж, как увидел их в этом положении, склонился, и вместе все разочли и распределили-с, и получили они все по десяти копеек за рубль-с… Покончили, значит, полюбовно-с и разошлись по домам.
И все в той надежде, что вот он это с посошком в Киев пойдет-с, а прочие кредиторы волосы будут на себе рвать-с.
А он через недельку после этого коленца новый магазинчик открыл-с и новый домик купил-с!
Так Москва-то, извольте заключить, тоже-с подвиги может совершать-с! Вы нашу старушку понапрасну, значит, конфузите-с!
– Это выдумки! – резко вскрикивает «москвич», переходя неожиданно от умиления к раздражению. – Я не понимаю, к чему вы вздумали рассказывать здесь подобные бессмысленные анекдоты?
– Прошу прощенья-с, анекдот самый верный-с, – отвечает несколько оторопевший, но неподатливый купчик. – И коли вы заподлинно из Москвы-с житель, так вы сами можете заключить-с…
– Вот «струя братской любви» так струя! – замечает черноглазая девица и заливается таким веселым хохотом, что даже господин в золотых очках, все время читавший газету и по бесстрастности и неподвижности скорее походивший на произведение искусства, чем на живую тварь господню, и тот переводит глаза с газеты на нее и улыбается.
Из «москвича» вся маслянистость снова испаряется, он слегка багровеет и говорит неровным голосом:
– Во всяком случае… во всяком случае, язвы родины врачуются слезами, а не смехом! Положим даже, что анекдот господина шутника, нашего спутника, справедлив, положим…
– Извольте положить-с, не сомневайтесь, – перебивает купчик. – Вся Москва знает-с, все радуются-с!
– Радуются? – вскрикивает черноглазая девица. – Радуются?
Затем снова заливается хохотом, который окончательно отрывает от газеты господина в золотых очках.
– Язвы родины… – начинает «москвич».
– Чему ж они радуются-то? – перебивает черноглазая девица.
– А как же-с не радоваться! – отвечает ей купчик. – Ведь свое-с, родное-с! И не то чтобы там от каких англичан или немцов научился, а сам, своим умом дошел-с.
– Да ведь он…
– Так что же такое-с? Хотя там от него и претерпели-с убыток, а все нельзя не почувствовать, что он молодец-с, политик-с… Голова, что называется, не сеном набита-с! Ну, и лестно-с, что и нас, дескать, бог не совсем своим промыслом обошел-с!
– Не обошел! Не обошел! – хохочет черноглазая девица.
– Язвы родины… – снова начинает «москвич».
Но черноглазая девица его снова перебивает:
– Расскажите еще про московские подвиги!
– Занятно показалось? – спрашивает купчик с самодовольной усмешечкой.
– Очень занятно! И вы отлично рассказываете: так все и видишь перед собою.
– Помилуйте-с! Это один комплимент-с!
– Ей-богу, не комплимент!
– Как можно-с! Мы понимаем-с, что это один комплимент-с…
– Ну, хорошо, как хотите… Скажите, правда это, что в Москве разводят гуано?
– Что-с?
– Гуано.
– Такого не слыхал-с, не знаю-с. Давно-с?
– Недавно.
– От кого изволили слышать-с?
– От одного знакомого.
– Кто такой на прозванье-с?
– На что вам его прозванье? Дело не в прозванье, а в том, что у вас в Москве разводят гуано!
Купчик делается серьезен и, видимо, начинает подозревать, что девица намерена над ним поглумиться.
– Неужели не знаете? У вас в воспитательном доме, на чердаке…
– А! Это голубей-то-с приваживали?
– Да, да! Ведь тоже молодец!
– Хозяин-с!
– Так это правда?
– Правда истинная-с. Обидели его, обидели-с! «Москвич» яростно обращается к купчику и, шипя, спрашивает:
– Вы от кого эти сведения получаете?
– Слухом земля полнится-с, – отвечает купчик.
– Хорошо-с.
Это «хорошо-с» произнесено столь зловещим тоном, что купчик несколько смущается, но показывать смущения не желает и потому улыбается по-прежнему, пощипывая и поглаживая свою бородку.
– Ну, расскажите! – говорит ему черноглазая девица.
– Что ж рассказывать, – отвечает купчик, – сами знаете-с!
– Да я только кое-что слышала, я хотела бы поподробнее узнать! Пожалуйста, расскажите!
Купчик только улыбается.
– Да что вы, боитесь, что ли, кого?
– Чего ж бояться мне-с? Я, слава богу, человек не подневольный-с. Слава богу, господ над собой не имею-с!
– Так как же это он приваживал голубей, а?
– Так и приваживал-с.
Там у них пространнейший чердак-с, и вот там все и происходило-с. И дошло, наконец, до того, что уж не только чердаки-с, а и верхний этаж предопределен был голубям-с, вместе с младенцами-с… Ха-ха-ха! Подлинно, как есть, хозяин-с.
– Безумная, злобная клевета! – восклицает «москвич», не обращаясь ни к кому, а так, в пространство.
– Не клевета, а глубокая «струя братской любви»! – отвечает черноглазая девица с горьким уже смехом. – Известно, по крайней мере, сколько детей поморено за это время? – обращается она к купчику.
– Мор был большой-с, а в точности неизвестно-с, – отвечает купчик, поглаживая бородку.
«Москвич», с которым чуть не сделался удар, когда черноглазая девица упомянула о «глубокой струе», несколько оправился и обращается, шипя, как кипящий сироп, к купчику:
– Любезнейший! Ты сам из Москвы?
– Московские-с, – отвечает самодовольно купчик.
– А звать тебя?
– Андрей Иванов.
Андрей Иванов вглядывается в круглое, багровое от злости дворянское лицо, смекает, что вел себя неосторожно, смущается этим, но, сохраняя вид спокойствия и даже некоторого удальства, отвечает с прежнею улыбкою:
– На что ж это вам мое прозванье понадобилось-с? Аль вы ревизские сказки списываете-с?
Для негодования «москвича» нет выражений. Он задыхается, дрожит, слюна у него брызжет, – едва возможно разобрать, как он, захлебываясь, шепчет:
– Я ревизских сказок не списываю… но… я знаком ли-ч-н-о с градоначальником и… и одолжу его… если… если… уведомлю о твоих… гнусных… гнусных…
– Извольте уведомить-с, извольте… Что ж! Извольте! – отвечает заметно изменившийся в лице, но все еще старающийся бодриться Андрей Иванов. – Что ж такое? Извольте-с… извольте-с…
– Ваше прозвище!
– Не говорите! – вскрикивает черноглазая девица. – Никто не смеет вас допрашивать!
– Всякий честный человек имеет право требовать отчета в гнусной клевете! Да, имеет право! – шипит «москвич». – Каждый, горячо любящий родину свою…
– Должен, по-моему, кротко смотреть на некоторые ее… ее уклонения, – раздается позади «москвича» внушительный голос.
«Москвич» быстро повертывается и окидывает нового собеседника грозно-испытующим взором.







