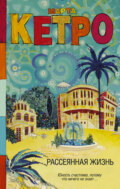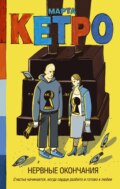Марта Кетро
Если забуду тебя, Тель-Авив
© М. Кетро, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
Меня тошнит от любви к этому городу, как всегда тошнило от любви.
То ли дело отношения равнодушного тепла, когда неделями живёшь «котиками», в обнимку, питаясь из одной тарелки; с необязательным сексом – не сегодня, так послезавтра, с хихиканьем и киношками; когда засыпаешь легко и аж храпя, будто и не принцесса. Думаешь: близость. Думаешь: привязанность. Думаешь: наверное, влюбилась.
Но это только если забыть, как было с другим, в ледяном и потном раю, сильно смахивающим на ад в представлении хороших людей. Когда сколько вместе, столько и не спишь, потому что даже в крайней усталости не можешь расслабиться и потратить часы на сон, пока рядом дышит твоя жизнь – слишком жаль. Когда невозможно съесть ни куска, хотя в желудке давно не было ничего, кроме чужих секретов, но схватывает живот и тошнит при малейшей попытке. Думаешь: мне бы домой, мне бы по-девичьи нежно поблевать. Думаешь: мне бы уснуть. Думаешь: мне бы туда, где не штормит и нет вертолётов, отдохнуть чуток и обратно.
Но из любви не бывает отпусков, от неё только сразу и навсегда, и не ври, что не знал. Все всё знают, Ромео, и не нужно специальных подпунктов мелким шрифтом. Устал – уехал – потерял. Отложить ничего нельзя, как нельзя приморозить время и юность, чтобы потом достать свеженьким и разогреть.
Так и здесь, душа моя, так здесь. Дай любить тебя, пока мы вместе, пусть тошнит и жара, простыни в поту, песок в тапках, и голодно, потому что душа не принимает ни булочек, ни мяса, а только солёный пот с чужого плеча. Это ненадолго, сколько бы ни собирался, ни рассчитывал, ни хотел – потому что любовь всегда ненадолго. Либо жизнь окажется длинней, либо любовь моя переживёт тебя, и никогда вровень, никогда не будет между нами равнодушного тепла, никогда – просто.
С любовью к тебе, Тель-Авив,
твоя Марта
Прогулка туриста
1
Пока шла вдоль моря, думала, что Тель-Авив безусловно родной город – в том смысле, который вкладываешь в это слово, когда оно возвращается к тебе очищенным от жлобских смыслов. Потому что начинается всё с шансонных интонаций, ну здравствуй, мама рóдная, привет, роднуля, дай копеечку, родненький, «и родная жена не узнала его, проходя мимо нищего старца». Ну или патетика – мой самый родной человек! – тревожащая душным бесцеремонным напором. Но однажды раздражающие ассоциации отшелушиваются и остаётся единственно подходящее слово, чтобы обозначить спокойную, чуть безвыходную близость. Куда я от тебя, куда ты без меня? – да уж найдём, куда. Но всякая перемена будет означать прежде всего не новую жизнь, а то, что я теперь не с тобой, а ты не со мной.
И вот я надела длинное, почти вечернее, и пошла смотреть на него чуть со стороны, с волнореза на Буграшов[1]. Там всегда стоит холодный белый стул для рыбака и в шабат бывает относительно тихо. Ну двое суданцев прострекотали мимо, арабская парочка чинно проплыла, вопящие девушки неопределённо гопнической национальности. Но если сесть спиной к морю, лицом к городу, можно снова увидеть его туристическими глазами первых свиданий.
Вообще люблю вспоминать, оказавшись в северном порту, как шла по скрипучей палубе в самый первый приезд. Заскочила в город буквально на час, между Иерусалимом и аэропортом, хитрым маршрутом, которым с тех пор никогда не ездила. В жёлтых штанах я шла по доскам и вообще ни о чём не знала – где я, какая это часть города, всё ли здесь такое и всегда ли. Такой был для меня Тель-Авив, другого могло и не случиться, остался бы городом чаячьих французских криков, деревянных настилов и холодного ветра. С мужчинами всегда иначе, смотришь на него впервые и сразу знаешь: сварит он тебе кофе с утра или руки из жопы, а тут ничто совершенно не предвещало. Было только понимание, что не про мою честь вся эта иностранная жизнь, потому что нет более неприсвоимых вещей, чем города у моря, отделённые многими границами, большими деньгами, иноязычием и законами о пребывании. Да и вообще, с какой стати.
Или вот таинственный винный в начале Алленби. Я шла до него необычайно долго от улицы Буграшов, где чаще всего селилась в первые приезды. Уже отчаивалась и думала, что скорей всего примстилась лавочка, но вроде после всех этих геул и хесс[2] где-то справа. Или нет, или да, или где я вообще? А, вот. Вся стена в бутылках и внизу обычно стоит этот странный чёрный абсент, которого я больше нигде не встречала, на стекле выступают купола, значит, иерусалимский. Огня и магии в нём было больше, чем во многих чешских и французских сортах, кастрированных в пользу европейских законов. Хотела купить перед отъездом, чтобы взять с собой и тосковать в снегах, и надо же было рассмотреть этикетку – Мытищинский винзавод, ООО «Родник», слушайте ваши «Валенки».
Или Кинг Джордж, на которую я первым делом прибегала сразу после самолёта, только въехав в съёмную квартиру и переодевшись. Какая невыносимая экзотика была в смуглой толпе, облезлых фасадах, в ярких цветных пятнах витрин. Я купила там лёгкие серые туфельки, сделанные из вечерних сумерек и дерматина, они были билетом в тель-авивское здесь и сейчас. Казалось, без них ткань реальности ускользнёт из-под ног.
Или яхтенная стоянка на севере: можно пройти по узкому мостику, лечь у воды, где припаркован черный полицейский катер, услышать тихий звон такелажа, посмотреть на огни и осознать, что всё-таки прилетела.
Рынок, где знакомые лавочки исчезали, а потом внезапно находились на тех же местах. Единственный обитатель Кармеля[3], который никогда никуда не девался, продавец сыра Стас, не знаю, лысый или бритый, остальные позволяли себе небрежение к привычной картине мира. Хоп, и не было никогда хлебного лотка на этом месте. Хоп, и снова висят на цепях потемневшие подносы с перчёными булочками, и как можно было не заметить, дважды пройдя туда-сюда.
Странно, что я не помню, как и когда появилась площадь Бялик[4], кто мне её показал или сама нашла, не знаю. Просто в один миг она образовалась на карте, в моём сердце, в моей жизни, и вокруг неё уже начал отстраиваться остальной город, теперь не чужой. На неё я пришла и поселилась, а не в Керем а-Тейманим[5], где однажды захотела пожить и в самом деле потом немного жила. Но именно в кувшинках возле старой мэрии завязалось первое ощущение родственности места, и потихоньку начало распространятся по улицам, как запах чубушника и франжипани, стекающий по Идельсон к морю.
А теперь я пришла на бугашовский волнорез, чтобы посмотреть на город глазами чужака, не знающего, что в этой кафешке с красной подсветкой раньше давали самый честный лонг-айленд[6] на берегу, а теперь только лемонану[7]. Что пальмы, похожие сейчас на обгоревшие спички, высадили недавно, и они почти прижились, но в этом году сдались. И что набережную совершенно перестроили. Понятный город сразу слился в облако огней, морских запахов и женских голосов, и с тем я решила вернуться. Бесшумно пошла по бетонному покрытию, но потом перебралась на поскрипывающую деревянную лестницу, чтобы звук моих шагов тоже стал частью городского саундтрека, вместе с шелестом машин, дыханием моря, холодным ветром и чаячьими французскими криками.
2
Я люблю его, и этим всё сказано. Кажется, с первой прогулки в Северном порту, когда я толком не понимала, где нахожусь, а до самолёта оставалось несколько часов. Тогда я улетала в уверенности, что это нельзя повторить, но потом раз за разом возвращалась, чтобы однажды приехать насовсем. Теперь я знаю, что можно присвоить самый невозможный город, как и самого свободного мужчину – но только если готова отдать ему взамен часть жизни. Редко какой человек этого стоит, а город – да.
Тель-Авив не только свободный, он освобождающий. Самые замкнутые люди расслабляются и начинают открываться, стоит побродить несколько часов по Флорентину, Ротшильду[8], заглянуть в Керем а-Тайманим, выйти на берег. Постепенно понимаешь, что мир не наблюдает за тобой, прищурившись, пытаясь взвесить и оценить – он смотрит на тебя с нежностью, как на любимое дитя, потому что все дети у него любимые.
Быть здесь туристом легко. Не нужно ничего специального, чтобы город раскрылся перед вами. Представьте, вы оказались в центре города, в тапках на босу ногу, в майке и шортах, с магнитной карточкой от номера и некоторым запасом денег. Любой нормальный человек сразу пойдёт к морю. Оно здесь чистое, с белым мельчайшим песком, который мгновенно убивает камеры и телефоны. Набережная Тель-Авива тянется на дюжину километров, на берегу есть Wi-Fi и пальмы, под которыми можно сидеть, исполняя зимние мечты.
Потом, конечно же, в центр. Погулять по Йеменскому кварталу, который выглядит как ближневосточный филиал Барселоны. Съесть что-нибудь на рынке Кармель, отправиться на цивилизованный шопинг по Шенкин или на дикий – по Кинг Джордж. Пройти по Ротшильд, посмотреть самую старую и прелестную часть Тель-Авива, увидеть баухаус[9] и почувствовать некоторое недоумение; полюбить баухаус. Зайти в Неве-Цедек[10] и обнаружить себя в южной Европе. Добраться до Флорентина, чтобы сфотографировать граффити, и вернуться по берегу в отель.
В другие дни можно поглазеть на башни Азриэли, Северный порт, Яффо, съездить на сафари в Рамат-Ган[11]. Через три дня вам покажется, что вы всё примерно поняли про Тель-Авив, через неделю решите, что всё уже здесь увидели. Это специальная иллюзия, которой город приручает человека. Тель-Авив состоит из множества контрастных локаций, за каждым поворотом состояние, запахи и звуки могут полностью измениться. Стеклянная высотка для миллионеров – низкие картонные домики бедноты, промышленные склады – прелестная американская миссия, арабская улочка – христианский храм, шумная широкая площадь – тихие цветущие дворы. Город подбрасывает вас на ладони, как теннисный мячик, и каждый раз вы взлетаете в иное время, в новую реальность. На Тель-Авив стоит потратить от трёх дней и до половины жизни.
В Сароне[12] вы узнаете, чем темплеры отличаются от тамплиеров, посмотрите на очень современный и дорогой рынок, хорошенькие магазины и рестораны.
В Музее искусств много Шагала, есть Кандинский, отличные работы современных художников и славная сувенирная лавочка.
В Яффо, кроме красивых видов, порта и морской еды, есть замечательный музей Иланы Гур, которая кажется мне одной из самых невероятных женщин на свете.
Если же вас почему-либо не тянет к культуре, вы спокойно можете проваляться всё отведённое время на пляже, опять-таки, от трёх суток и до половины жизни, и это будут прекрасные насыщенные дни или годы. Здесь потому и свобода, что очень легко выбрать занятие по возможностям и состояние души по вкусу. Тель-Авив находится на пятнадцатом месте в двадцатке самых красивых городов мира; входит в десятку лучших приморских, в пятёрку лучших кулинарных и в первую тройку самых дорогих. Всё это не будет иметь для вас никакого значения, если он вам не понравится. Но если понравится – вы полюбите его безо всяких рейтингов, только за воздух и свободу.
В жару в Тель-Авиве стоит обязательно есть йогуртовое мороженое с разными наполнителями, зимой – мясные супы в Йеменском квартале, пить сахлаб[13], на Хануку покупать пончики в сети «Роладин» и круглый год ходить за фруктами на рынок Кармель. В Израиле не страшно отказываться от привычной еды в пользу местной – вас не отравят, предупредят о слишком остром, сочувственно предложат вегетарианское. И не бойтесь растолстеть, все девочки знают, что в путешествиях не толстеют. По крайней мере, любовь Тель-Авива выжмет из вас все соки, вытянет деньги, высушит лишние калории, а взамен, как любовь всякого горячего мужчины, даст жизнь.
Прогулка за едой
1
Когда съездила в Грузию, поначалу гордилась, что не разделила всеобщего сумасшествия – ну красиво, ну вкусно, ну ааааа! но без последствий для психики, не как у вас у всех. Не купила в дом ни хмели-сунели, ни сыра, ни вина. Не гуглила по приезде билетов на осень. И набрала там всего два кило, которые быстренько сбросила. Для человека, пережившего иерусалимский синдром практически сохранным, Тбилиси – семечки. У меня необычайно крепкая голова, я даже не гуляла в простыне по Иерусалиму, только в одеяле, да и то в Тель-Авиве. И я была уверена, что Грузия закончилась для меня безнаказанно, как вдруг.
Да, я знаю, что все через это проходили, но я-то. Про еду понимаю только есть, а не готовить. Даже салат оливье на Новый год покупала в ресторане на Алленби, чисто мисочку для мужа.
И вот, когда уверен, что полностью в порядочке, контролируешь ситуацию и свободен от зависимостей, просыпаешься однажды утром и решаешь приготовить пхали.
А ведь меня там никто не укусил и даже не ослюнил, не считая одной привитой собаки питерского происхождения и московской сторожевой породы.
Проснулась с этой нелепой мыслью ещё третьего дня, но мне нужно было подготовиться. Есть две проблемы: не люблю людей и разговаривать на языке, которого не знаю. Поэтому поход на рынок был сильнейшим испытанием для психики, нельзя просто так взять и выйти за шпинатом, как Пятачок на прогулку, делая вид, что ружьё, каску и костюм химзащиты прихватил чисто проветрить. Не прижиматься к стенам, не бросать впереди себя гайки с бинтом, сохранять лёгкое выражение лица и говорить небрежно, иначе тебя расколют.
И вот с утра я созрела, выпила бодрящий ноотроп и выдвинулась. Для храбрости зашла в книжный магазин «Бабель» к друзьям, поделилась дерзким планом и отметила, что, рассказывая, размахиваю руками. Ага, действует таблеточка.
А на рынке вдруг оказалась пятница – это как час пик в метро, только ещё и жарко, все орут и нужно при этом покупать.
Ну, думала я, ну. Могло быть хуже. Я могла бы, как это принято среди российских женщин, влюбиться в волосатого грузинского мужика, разрушить семью и существовать от отпуска до отпуска, откладывая каждую свободную копеечку на поездки к нему, пока однажды, в очередной прилёт, он просто не встретит меня в аэропорту. Я могла бы возжелать домик в Тбилиси, продать подмосковную квартиру и вложить всё в руины с текущей сантехникой; умереть от недоумения, так и не поняв специфики местного бизнеса и отношения к собственности. А я всего лишь захотела пхали.
Но к концу рыночного ряда я уже думала, что волосатый мужик не так разрушителен для психики, как вот это вот всё. В одном из переулков даже играли на контрабасе.
Шпинат, кинза и чеснок. Орешки. Остальное было.
Домой пришла, как ощипанная птица – шокированная, но спасибо, что живая. Трясущимися руками бросилась варить кофе, ошпаривать шпинат, измельчать орехи и разыскивать пестик, чтобы размять чеснок. Когда нашла, оказалось это преждевременно – то, что я купила в качестве чеснока, было шампиньонами.
Ну, понимаете.
Я тыкала пальцем в коробочки с круглыми белыми головками и мягко, но настойчиво просила «шум», как его тут принято называть. Продавец некоторое время сопротивлялся, но в конце концов продал. Лёгкую его непонятливость списала на то, что я-то принимала стимуляторы, а он нет. А дома выяснилось, что я уломала его на грибочки. Ну а что, тоже круглые и белые, всякий ошибётся. Пришлось дополнительно сбегать в соседний магазин.
Говорю же, хорошие колёса.
И вот, после позора, мук и грязи – пхали. Шпинат слабо просматривается среди орехов, с острым я переборщила. Но город меж тем затихает, шабат укрывает его тяжёлым плотным одеялом, которое гасит шум, суету, тревогу, страхи, раздражение и растерянность; вместо них в окнах зажигаются свечи. Всех отпустило. Человек, в сущности, может быть очень храбрым, если правильно подобрать препараты и в конце пообещать покой.
2
В кафешке, где я бываю с первых приездов в Тель-Авив, подали на десерт финиковые шарики, и у них вдруг оказался совершенно однозначный вкус тех коричневых пряников с белой глазурью, которые продавали на развес всё моё детство. Не пересказать, какое это сложное переживание, когда незнакомая еда присылает тебе известные сигналы. Хочется устроить им очную ставку и допросить обоих: кто из вас врёт? какие цели вы преследуете? кто ещё с вами в банде?
Один из тель-авивских магазинчиков, эксплуатирующих пищевую ностальгию, называется «Маленькая Россия», и я ничего не могу поделать с собой – каждый божий раз надеюсь открыть дверь и сразу упасть лицом в снежок, а вокруг чтобы маленькое бесконечное поле, маленькое ледяное небо и маленькая вечная тоска. Но там опять только шоколад «Алёнка» и тульские пряники.
3
Муж уехал, оставив мне полный холодильник, и я потихоньку проедаю в нём ходы, но не рискую слишком углубляться – что на поверхности, то и беру. Поэтому в первые дни питалась арбузом, потом почти неделю были персики, а вчера доелась до клубники, которая стояла у задней стенки. И это пока только первая полка.
Перед субботой решила пополнить запасы творожков и отправилась в «Кофикс», попутно открыв для себя способ не накупить сгоряча мусорной еды: надо всего лишь купить мусорной еды заранее и с утра случайно съесть целую плитку скверного молочного шоколада, тогда в магазин придёшь с лёгкой, но отчётливой тошнотой, не позволяющей даже смотреть на сладкое. Правда, есть опасность импульсивно цапнуть котлетки неизвестного генезиса и вечером вспомнить вкус замороженных полуфабрикатов. Странная пища, побуждающая обдумать, зачем так жить, чтобы это есть.
Потом пошла выгуливать белые кеды, уродливые, как ортопедические котурны – года три назад о таких мечтали четырнадцатилетние девочки с рабочих окраин. Я-то никогда не была четырнадцатилетней девочкой, по крайней мере, не знаю о себе ничего подобного, поэтому непережитые мечты настигают меня, как желания беременных – внезапно и непобедимо. У меня с ранних пор есть дефект памяти, я не помню своего детства, да и всё остальное стирается в течение двух-трёх лет. Я, конечно, записываю, но прошлое всё равно состоит из редких крупных планов, в которые, как правило, не попадает ничего конкретного: какие-то солнечные пятна, цветущие деревья, вьющиеся тёмные волосы не помню какого мужика, прозрачное зеленоватое море, поцелуй. Океан, звуки порта, ручей в овраге, лиловые часики и кукушкины слёзки, свет в стакане воды, поцелуй. Кот, обнимающий меня за шею, улыбчивый ребёнок, театральная помадка с цукатами, рисунок липовой кроны в солнечный день, мужская кисть с длинными пальцами, я тону в Черном море, мёд и лимоны на кухонном столе, иерусалимский камень, поцелуй. Остальное всё забыла, простите меня, ничего более нельзя выжать и конвертировать в слова и опыт. Поэтому люди живут, а я как-то нет.
Ещё смотрела на Тель-Авив, погружающийся в шабат, сумерки медленно стирали детали, а я как раз думала, когда, когда же в женщине перестаёт проглядывать девушка. Сначала девчонка, потом взрослеет, становится зрелой, но достаточно высветлить тон и припудрить, чтобы проступила та девушка, чья кожа светилась в темноте сама по себе. Позже нужен специальный ракурс, я вижу, как они на селфи таращат глаза и закусывают изнутри щёки, чтобы как-то втянуть брыли, и, смотришь, девушка та мелькнула. На кухне иногда получается скомбинировать специальный свет, слева голубой, справа тёплый, и я становлюсь прозрачней, а тени нежней. Потом уже только фотошопом, но всё-таки можно её проявить и разглядеть. А однажды она должна исчезнуть, и ничем тогда не вытащить её из-под морщин, лишней кожи, старого тела, из сумерек, из темноты.
А в сегодняшней моей темноте танцуют уличные коты, кроме котлет я купила печёнки, чтобы украсить их короткую беспамятную жизнь чем-то понятным и определённым – как шоколад, кеды, длинные розовые тени на закате, поцелуй. Но коты не целуются, им печёнка.
Прогулка после еды
В тот раз я проснулась часам к четырём дня, заглянула в рабочую почту и обречённо ответила «доброе утро». К семи достаточно сосредоточилась для первого кофе на Бялик. Под чашечку рассказывала медицински образованному собеседнику, что за три месяца меня внезапно разнесло, и это, конечно, гормональный сбой. Назвала страшную, но всё-таки не двузначное число, а он говорит: нет, столько – не гормоны. Это пищевое поведение. Я обиженно и несколько возмущённо ответила, что вообще-то слежу за диетой и строга к себе.
К тому времени как раз достаточно стемнело для завтрака – известно, что съеденное в темноте, в пути и на халяву не полнит. И мы потихоньку пошли в «Бенедикт», где в любое время суток вас приветствуют фразой «доброе утро», и есть завтраки с шампанским.
Заказала умеренно и белково, на десерт предложили панкейк. Взяла половинную порцию, я же на диете.
Вдруг приносят три больших куска горячего бисквита, увенчанного бананами, и всё это покоится в озере сгущёнки. А я же не могу устоять, когда сгущёнка.
Но спутник мой ужасный молодец и ни слова не сказал про гормональный сбой.
Перед выходом нам предложили взять с собой бесплатный кофе – то ли потому, что мы такие прекрасные, то ли потому, что возле моих ног официант уронил сразу три яйца всмятку. Я выбрала двойной эспрессо и аккуратно пошла по Алленби в сторону дома.
Вернулась и поняла, что у меня есть совесть – именно она не давала уснуть, пучила мои глазки изнутри, и тыкала мордочкой в лужу сгущёнки: кто, кто сожрал бисквитную башню? и Бастилию тоже ты! Хотя злые люди сказали бы, что это не стыд, а кофе. Но я зарядила телефон, чтобы собирать покемонов, и к четырём утра мы с мужем выступили в Северный порт. В левом виске ненавязчиво играли «Прощание славянки», с нами был пикачу – в Pokemon go можно выбирать покемона-спутника, который будет трусить у ноги и прижиматься тёплым боком, когда ты останавливаешь.
От стыда и ужаса я прошла двенадцать с половиной километров.
И всё это было не зря, потому что ночь оказалась такой, какие выпадают изредка, когда кто-то большими ножницами вырезает кусок другой реальности и вставляет в обычную жизнь. Стык иногда удаётся заметить только по лёгкому головокружению и смене чёткости картинки.
Мы шли по набережной, был шабат и пять утра, и нам попадались особые люди. Признак большой свободы – когда в любые часы встречаешь тех, кто живёт не по графику, и это не деклассированные элементы, а просто такие аборигены времени, жители потока, у которых есть понтоны. В пять утра на набережной, если идти на север, обитают рыбаки и спортсмены, немного служащих порта, тихий сумасшедший и охранник пустого кафе, который сидит там, кажется, из любви к солёному воздуху и огням на воде. Из мимошедших были мы и группа юношей, возвращающихся с вечеринки, они сказали нам «бокер тов»[14], но рановато, ночь ещё не ушла.
Мы догуляли до самого Яркона[15], там стояла башня электростанции с алым огнём наверху, который бросал отблеск на воду, и я сказала пикачу: посмотри, чисто Красная площадь и мокрые камни мостовой. Поедем в Москву – увидишь.
Потом мы повернули на восток, и только тогда солнце начало выходить, крася нежным светом стены унылого севера, который я не люблю, но в этом розовом он вдруг стал умеренно хорошеньким, мы даже нашли франжипани. А потом повернули на Бен-Иегуда[16], и по мере продвижения в сторону уменьшения, дома становились всё краше, всё облезлей, всё милей, будто твой кислотный пикачу обрастает тёплой абиссинской шёрсткой.
Там, где было уже всё хорошо, примерно возле ста сороковых домов, я нашла себе работу на старость. «Сватовство, мистика и рефлексология», гласила вывеска, и это выход для меня, у которой крылья из жопы – маникюр-то я точно не смогу. Мистика и рефлексология – хороший девиз, почти как слабоумие и отвага.
Была, повторюсь, суббота, и мы встретили разных людей, которые были на улице по доброй воле, потому что им зачем-то нужно жить в часы, когда город видит последний сон, пачкая слюнями подушку. В восемь утра мы всё-таки вернулись домой, бисквитная башня наконец-то перестала подпирать мне сердце, и я стала смотреть, что сфотографировала – карусель без детей и пустые улицы. А пикачу уже спал и во сне дрыгал лапами, догоняя сумеречных котов, зеркальных зайцев и блики на мокрых камнях.