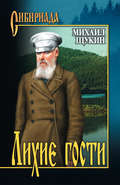Михаил Щукин
Осиновый крест урядника Жигина
– Где он?
В ответ зазвучал спокойный голос Катерины:
– Собрался молчком и ушел, а куда – не знаю…
– Давно ушел?
– Да вот, перед вами…
– Ты что ему говорила?
– Ничего. Накормила, постель постелила, он спать лег… А незадолго до вас поднялся, оделся, я только и услышала, что дверь стукнула.
– Где теперь его искать?
– Да откуда ж я знаю!
– Смотри, Катерина, если ты ему шепнула про нас – худо тебе будет!
Ответа на эту угрозу не последовало – Катерина молчала. И ясно было, что молчит она по одной простой причине: с людьми, которые так по-хозяйски явились к ней посреди ночи, разговаривать следовало без лишних слов и уж тем более без лишних вопросов.
Послышались шаги, видимо, оглядывали горницу.
«Сейчас и кладовку проверят, – Жигин осторожно расстегнул кобуру и вытащил револьвер. – Ну, Земляницын, ну, кусок дерьма, ты на какой постой меня определил?! Погоди, дай только утра дождаться! Всю душу выну!»
Снова застучали шаги, свет фонаря брызнул в щели кладовки, Жигин, не поднимаясь с кадушки, чтобы случайно чего-нибудь не опрокинуть, напрягся и положил палец на курок. Но свет фонаря, не задержавшись, соскользнул из сеней на улицу и там, на крыльце, фонарь погасили. Негромко хлопнули вожжи, скрипнули полозья саней, и все стихло. Установилась такая тишина, что Жигин, шевельнувшись, расслышал, как шуршит его шинель.
«Сколько их было? Если по шагам судить, не меньше трех-четырех… Наверняка кто-то на улице еще оставался, возле коней… Многовато! И все, выходит, по мою душу приезжали… Хорошо, что спрятаться успел, иначе пришлось бы тут пальбу открывать…»
Жигин не испытывал страха – служба научила не бояться. Но он всегда был разумно осторожен и никогда не бросался сломя голову в неизвестность. Именно по этой причине, не выходя из кладовки, дождался, когда в мутном окошке, врезанном в стену, тускло замаячит рассвет, и лишь тогда выбрался из своего укрытия. Первым делом оглядел следы у палисадника – саней, судя по полосам от полозьев, подъезжало двое. «Это что же, целое войско, выходит, подкатывало? – хмыкнул Жигин, – хорошо, что не высунулся…»
Он еще прошелся по дороге, в оба конца, но никого и ничего, кроме следов, в этот ранний час не увидел. В избах начинали теплиться неяркие огоньки. Затеплился такой огонек и в доме у Катерины, а над трубой, ровный в безветрии, встал столбик густого дыма. Жигин еще раз огляделся и направился к месту своего ночлега – пора было побеседовать с хозяйкой.
Катерина встретила его, как ни в чем не бывало, будто он только что с постели поднялся:
– Доброго утречка вам, Илья Григорьевич! Проходите, за стол садитесь, у меня и самовар вскипел.
Не раздеваясь, Жигин присел к столу, молча попил чаю и, отодвинув чашку, сказал:
– Ну, рассказывай, Катерина, кто в гости приезжал…
– А никто не приезжал! – живо откликнулась хозяйка, не оборачиваясь к гостю – она в это время, растопив печку, засовывала в нее, подцепив ухватом, большущий черный чугун. Когда засунула, обернулась, оперлась на ухват и глянула на Жигина, поблескивая темными глазами. От пламени в печи на нее падали отсветы и в этих отсветах по-особенному ясно виделось, что Катерина – красавица. Статная, с покатыми плечами, с пышной грудью, выпирающей из кофточки, с гордо посаженной головой, она смотрелась по-царски, будто опиралась не на ухват, а на позолоченный посох.
– Ты прямо как королевишна на картинке, – усмехнулся Жигин. – Может, все-таки спустишься до меня, расскажешь, по какой причине тревога поднялась, что пришлось мне в кладовке скрываться? И по какой причине гости ночные грозились, что тебе худо будет?
Катерина продолжала стоять на прежнем месте, опираясь на ухват, молчала и только дышала глубже и чаще, отчего грудь колыхалась и туже натягивала кофточку. Показалось, что она сейчас закричит. Но нет. Ухват отставила в сторону, тихо спросила:
– Обедать-то придете, Илья Григорьевич? Или Земляницын с Савочкиным угощать будут?
– Про обед не знаю, а прийти – обязательно наведаюсь. И ты до моего прихода из дому никуда не отлучайся. А заодно подумай, чего мне отвечать станешь, когда я допрос по всей строгости учиню. Уразумела?
Не дождавшись ответа, Жигин поднялся из-за стола, погрозил Катерине пальцем и, надев шинель, запоясав ремень, поправив шашку на боку, вышел на улицу.
Было уже совсем светло. Прииск просыпался, наполнялся звуками: где-то лаяли собаки, слышались людские голоса, из кузницы долетали гулкие удары молота по наковальне. Жигин постоял, прислушиваясь, огляделся. Увидел узкую, почти заметенную тропинку, которая огибала палисадник и уходила в огород, на задах которого, действительно, стоял старый сарай, накрытый большущей шапкой снега. Жигин не поленился, прошел до сарая – ничьих следов там не маячило. Значит, и ловушки никакой не было. Выходит, не обманула Катерина и без всякого тайного умысла предупредила об опасности?
Выходит, так.
«Ладно, пойдем в другом месте полюбопытствуем, а сюда еще успеем вернуться, – Жигин выбрался с тропинки на дорогу и пошагал к конторе прииска, досадуя, что слишком все непонятно закручивается. – Ничего, помолясь, раскрутим…»
Он надеялся и ни минуты не сомневался в том, что своего обязательно добьется, иначе… Иначе как ему дальше без Василисы жить?
18
Первым, кого он встретил, подходя к конторе прииска, был Земляницын. Тот сдвинул на затылок лохматую казенную шапку, протянул крепкую руку, чтобы поздороваться, и удивился:
– А ты чего в такую рань поднялся? Неужели Катерина не приласкала? Баба она одинокая, а ты кавалер видный…
– Приласкала, приласкала, – отозвался Жигин, – добрая баба, жалостливая… Если бы не пожалела, я и не знаю, что бы со мной случилось…
Земляницын сразу насторожился, шапку опустил на лоб, и глаза у него прищурились – будто матерый зверь, почуявший опасность. Но спрашивать ни о чем не спрашивал, выжидая, что сообщит ему урядник. Жигин таиться не стал, да и не мастер он был вести вокруг да около витиеватые разговоры:
– Какие-то люди приезжали ночью, думаю, человек пять-шесть их было, посчитать не получилось… Приезжали по мою душу… Катерина предупредила, пришлось в потайном месте отсиживаться… Вот по этой причине и поднялся раным-ранешенько… Теперь пошли, Земляницын, разговоры разговаривать, не на улице же нам стоять…
– Пошли, – кивнул Земляницын и первым, не оборачиваясь, направился к конторе прииска. Ходил он, чуть наклонившись вперед, опустив голову, и шаг у него был тяжелый, будто он давил землю большими, крепкими ногами.
«Такой, пожалуй, и затоптать может, – невольно подумал Жигин, шагая вслед за ним, – остерегаться надо…»
Странное чувство испытывал в последние дни урядник: едва ли не от каждого встреченного им человека ожидал он подвоха, опасности и все чудилось ему, что за спиной кто-то стоит, и он едва сдерживал себя, чтобы не оглядываться.
С этим настороженным чувством он и вошел в маленькую комнату в конторе прииска, где Земляницын, не раздеваясь, сел на стул с резной спинкой и показал рукой Жигину на другой такой же стул, приглашая и его присесть. Жигин сел, поставил между ног шашку, словно собирался при первой опасности выдернуть ее из ножен. Земляницын усмехнулся:
– Ты, никак, воевать со мной собрался, Илья Григорьич?
– Да не хотелось бы воевать-то, – ответил уклончиво. – Лучше бы миром обойтись. Миром всегда лучше… Ты сам-то как думаешь?
– Миром, конечно, лучше, да только не всегда получается… Иной раз и рад бы не воевать, а в лоб тебе прилетело… Как не ответить?
– Говорим мы с тобой, Земляницын, будто два ужа ползаем, извиваемся, и ног не отыскать. Давай напрямки – знаешь, какие люди ночью к Катерине приходили? И зачем я им понадобился? Они ведь за мной приходили! И почему грозились Катерине, что, если она слово скажет, худо ей будет? Когда они узнали, что я приехал и что у Катерины остановился? Я ведь ни с кем вчера не разговаривал, кроме как с Савочкиным и с тобой… Что скажешь?
– Погоди, не понужай, все скажу… Ты, главное, сделай вид, что ничего мне не рассказывал про ночных гостей. Как будто не доверяешься мне. Ты ведь и взаправду не доверяешься… Так?
Жигин промолчал. Слушал Земляницына, чуть наклонив голову и не глядя тому в лицо; смотрел на его крупные руки с растопыренными пальцами, лежавшие на коленях – не руки, а здоровенные грабли, если ухватит ими за глотку – не вырвешься. Не верил он Земляницыну, ни одному слову не верил. А тот, словно читая его мысли, продолжал:
– Ты ведь как думаешь? Думаешь, если мне Парфенов деньги платит, значит, я любое темное дело здесь покрою, если он прикажет. Да только не приказывал он мне темные дела покрывать, ни единого разу не приказывал, одного требует – чтобы порядок был… – Земляницын внезапно прервался, прислушался и заговорил громче: – Давай-ка, Илья Григорьевич, делом займемся, пойдем с твоего беглого допрос снимать, да казенную бумагу писать по начальству. Он уж, наверное, заскучал, твой каторжный. А после баню истопим и попаримся всласть. Давно не парился – аж кости чешутся, веничка просят!
Последние слова Земляницын договаривал, уже поднявшись со стула и направляясь к дверям. На ходу махнул рукой, давая Жигину знак – ступай за мной.
Жигин, ничего не понимая, удивленный до крайности, тоже поднялся и пошел следом.
В конце узкого коридорчика, в который выходила дверь комнаты, где они беседовали, высилась большая, круглая печь, обитая железом. Возле печи, на корточках, сидел невзрачный мужичок и обдирал кору с березовых поленьев. Обернулся на скрип открывшейся двери и закивал головой, быстро и часто, будто она сидела у него на тряпичной шее.
– Раненько ты нынче топить начал, Тимофей, печка с вечера еще не остыла, жара будет, не продохнуть, – мимоходом сказал ему Земляницын и пошел по узкому коридорчику, не оглядываясь; грузно топтал пол тяжелыми ногами и половицы под ним жалобно попискивали.
– Жар костей не ломит! – весело отозвался мужичок Тимофей, и слышно было, как он чиркнул спичку, разжигая разорванную на ленточки бересту.
Жигин уже не удивлялся внезапной перемене, произошедшей с Земляницыным, понял, что тот опасается, чтобы их не подслушали.
Они обогнули контору и с глухой, подветренной стороны остановились возле входа в подвал. Земляницын, пошарив в карманах, вытащил ключ и отомкнул большой амбарный замок, поднатужился и оттащил с глухим скрипом тяжелую заиндевелую дверь; из проема пахнуло теплом, и донеслась громкая, бодрая несуразица Комлева:
– Кура-вара, буса корова, григи-кики петухи, вчера яиц нанесли! Крули-марули, бедны забирули, тренькнул балалайкой, ножкой танцевал, оглянулся сзади, нос отпал! Привет-салфет вашей милости!
И раскланялся беглый перед вошедшими, даже простреленный треух почтительно с головы сдернул. По сравнению с тем, каким он смотрелся вчера, даже после того, как у костра оттаял, сегодня Комлев был, словно первый, только что вызревший, молодой огурец – лишь зеленого цвета да пупырышек не хватало. Притопывал, приплясывал, будто ему пятки поджаривали, и весело скалился узким, вытянутым лицом, показывая редкие, но крупные, будто у коня, зубы.
– Какой он веселый у тебя, – Земляницын фыркнул по-кошачьи и, продолжая разглядывать приплясывающего перед ним Комлева, насмешливо спросил: – А скажи нам, сердешный, за какие грехи угодил на каторгу? Наверняка не одну душу загубил?
– Не-не-не, – заторопился Комлев и даже руками замахал, будто шел по жердочке и вдруг зашатался, не удержав равновесия. – Ни одной жизни не загубил, ручки у меня чистые и греха смертоубийства на душе не имею! Я невинно пострадал, господа хорошие! Желаете знать, как получилось? Истинно расскажу!
– Рассказывай, – разрешил Жигин и присел на березовую чурку, стоявшую возле низкого топчана, доски которого были застелены рваными тряпками. Он хорошо понимал, о чем попросил Земляницын – побыть здесь какое-то время, будто они допрос с Комлева снимают, а уж после, в уединенном месте, можно будет и разговаривать откровенно.
– Я же из приличной семьи происхожу, папенька мой – торговец известный в городе Ельце, даже собственный выезд имел, а маменька у меня очень набожная и каждое лето в Сергиеву лавру ходила молиться. Да-да, собственный выезд имелся, а она пешочком, котомочку приладит за плечики, посох в руки возьмет, и пошла, и пошла… – Комлев остановился, поднял глаза к потолку и поморгал, будто бы у него слезы выкатились; поморгал и продолжил: – И вот, значит, подрастал я в добропорядочной семье и дорос до двадцатилетнего возраста, в гимназии обучался, папеньке в торговых делах помогал, послушным был, как полагается хорошему сыну. Но тут случилось большое событие – решили меня родители женить, потому как спать я стал беспокойно и непонятная тоска у меня объявилась. Встану, бывало, с постели посреди ночи и смотрю в окно, смотрю, смотрю… А для чего это делаю, сам себе объяснить не могу! Не могу – хоть плачь! Вот родители и обеспокоились, видя, что творится со мной неладное. Призвали расторопную сваху, и начала она мне невесту подыскивать, да только кого ни найдет, все маменьке не нравятся: одна толста, друга худа, третья грязнуля, а четвертая слишком уж норовистая… В конце концов отыскалась единственная – дочь купца Калабухина. Всем хороша была Степанида Федоровна: и обличием, и характером, и красотой, а уж как она маменьке поглянулась – словами не описать…
Рассказывая, Комлев не переставал перебирать ногами и говорил так складно, будто читал по написанному; Жигин и Земляницын невольно заслушались, даже позабыли на короткий срок, зачем они в подвал пришли. А Комлев, видя, что его слушают, взмахивал руками, будто крыльями, и воспарял все выше:
– Наступил день, и поехали мы свататься, на собственном выезде к Калабухиным прибыли, под колокольцы… Да… Я и сейчас тот день помню… Покров, только-только снежок выпал, искрится… Едем, а меня телесное томление одолевает… Понял я причину, по которой ночами в окно смотрел без всякого смысла. А уж как Степанида Федоровна выплыла, чтобы во всей красе показаться, тут у меня в голове так зашумело, будто я об стену ударился, будто всякой памяти лишился – ничего не помню. Ну, дальше дело известное – договорились полюбовно, по рукам ударили, свадьбу сыграли, жить начали. Душа в душу со Степанидой Федоровной живем, я по ночам в окно перестал смотреть, да и некогда смотреть, когда телесному удовольствию предаешься. Уж до того оно мне понравилось, что я во всякую удобную минутку обнимаю Степаниду Федоровну, целую и ласкаюсь к ней. Прилепился, будто приклеился, никакой силой не оторвать. Да только недолго нам миловаться довелось. Стал я замечать, что супруга моя драгоценная, Степанида Федоровна, грусти начала предаваться, невеселая ходит и на ласки мои с неохотой отзывается, а то и вовсе отпихивает. Я к ней с расспросами, а она молчит. Очень уж сильно меня это обстоятельство огорчило, стал я по ночам снова в окно смотреть. Смотрю и смотрю… А Степанида Федоровна почивать изволит, так сладко посапывает, будто меня и вовсе на свете нет. А после объявляет – веселья, говорит, желаю. Какого такого веселья? Давай я на базар ее вывозить, на карусели, матушка в лавру с собой звала, да только Степанида Федоровна отказалась. Матушка одна ушла. А тут на нас с папенькой торговые дела навалились в большом количестве, срочно надо за товаром ехать, ему в одну сторону, мне – в другую. Папенька еще говорил мне, чтобы я молодую жену не оставлял в одиночестве, может, говорит, подождешь, когда я вернусь. Да как же, отвечаю, подождать, если у нас в лавках полки скоро пустые будут. Поехал. Все дела за неделю сделал, товар доставил, домой возвращаюсь, желаю всей душой Степаниду Федоровну увидеть, потому как соскучился. Ну, и увидел… Лучше бы не видеть! Захожу в родительский дом, а там – пыль до потолка и дым коромыслом! Степанида Федоровна веселиться изволят. Мужские личности за столом сидят, числом четверо, все пьяные, и одна женская особа – супруга моя. Тоже пьяненькая. На двух гитарах играют, с переборами, а она пляшет в непотребном виде, в одной юбке, а выше юбки ничегошеньки нет, никакой тряпочки. Увидела меня Степанида Федоровна и хоть бы смутилась для вида! Пляшет, как ни в чем не бывало, еще и прикрикивает: вот я какого веселья желаю, чтобы голова кружилась! А ты, говорит, супруг мой, садись с гостями моими и кушай-пей с дороги. Это в нашем-то доме, под иконами, маменькой намоленными! Не стерпела душа моя, развернулся я и прочь из дома, да еще и дверью в сердцах стукнул. А на двери у нас, снаружи, защелка железная имелась, она, видно, и упала, ударил-то я сильно. Получилось, что все, кто в доме веселился, запертыми оказались. А еще у нас на входе, на стене, лампадка висела, стена-то, видно, тоже дрогнула, когда я дверью ударил, ну, лампадка и упала… А окна снаружи ставнями закрыты были, чтобы, значит, никто веселья не видел. Ушел я, сам себя не помня, куда подальше, прилег под березку и плакать стал от случившегося несчастья и от позора. А дом наш родительский загорелся в это время, от лампадки, которая упала, и сгорел до основания, и все, кто в нем веселились, тоже сгорели. Одна супруга моя, Степанида Федоровна, уцелела, хотя и личиком от огня попортилась. Знала она, что в дальней комнате маленькое окошко имелось, которое ставнями не закрывалось, вот через него и спаслась. И показала она на меня, что я дом закрыл и поджог устроил и что по моей вине четверо человек заживо в огне спалились… Поставили меня перед судом суровым, и суд сказал мне – привет-салфет вашей милости! Пошел я по этапу, а супруга моя, Степанида Федоровна, даже проводить не соизволила. Вот и вся моя история…
Комлев перестал приплясывать и размахивать руками, замер, закончив рассказывать, и поднял глаза к потолку, снова заморгал часто-часто, будто пережидал, когда слезы остановятся. Долго так стоял, скорбно сложив на груди руки, и будто не слышал, как хохочут Жигин и Земляницын. Нахохотавшись вдоволь, Жигин спросил:
– Как же ты через двери, если они закрылись, увидел, что именно лампадка упала?
– Дар у меня такой, – отвечал Комлев, – глаза закрою и все, что мне надо – вижу.
– А теперь чего видишь?
Комлев перестал моргать, закрыл глаза и доложил:
– Чугун хороший, большой чугун, а в нем каша с мясом… Горячая!
– Ладно, будет тебе каша, – пообещал Земляницын, – не знаю, с мясом или без мяса, но каша будет, скажу, чтобы накормили. Пойдем, Илья Григорьевич, нам этого говоруна, если он разойдется, похоже, за неделю не переслушать. Врет, как по воде ходит, но складно – я прямо заслушался. Пошли…
Вернулись в контору прииска, там Земляницын отдавал какие-то распоряжения, мужичка Тимофея послал топить баню и еще велел ему, чтобы по дороге он забежал к Катерине и предупредил, что обедать придут к ней. Жигин молча ходил следом за ним, ни о чем не спрашивал, терпеливо ждал – когда они в конце концов закончат начатый разговор?
– Подожди, – словно догадавшись, о чем он думает, коротко успокоил Земляницын, – надо так – круги нарезать…
Ну, раз надо, значит, надо, кивнул Жигин, будем круги нарезать.
Из конторы прииска они вышли ближе к обеду.
Шли один за другим по натоптанной в снегу тропинке, направляясь к приземистой бане, которая приютилась на берегу Черной речки, и Земляницын, не оборачиваясь, задышливым от быстрого хода голосом приговаривал:
– Ты еще чуток потерпи, в бане, как на полок залезем, я тебе все поведаю…
Когда вошли в предбанник, он крепко прихлопнул за собой дверь, закрыл ее на толстый самокованный крючок и, раздевшись, первым шустро нырнул в жаркое нутро бани. Они долго парились, мылись, плескали на каменку воду, которая мгновенно превращалась в жгучий пар, кряхтели, ахали, и Земляницын успевал негромко говорить, и чем дальше он говорил, тем все больше и больше удивлялся Жигин тому, что слышал.
19
А рассказывал Земляницын следующее…
В начале осени, когда горячий приисковый сезон стал сворачиваться, нагрянул с ревизией хозяин – Павел Лаврентьевич Парфенов. Хмурый был, недовольный, и долго о чем-то разговаривал с Савочкиным, строжился на своего управляющего, и даже слышалось через закрытые двери в кабинете, что он кричал на него и стучал кулаком по столу.
Земляницын, как и положено, стоял в коридоре. Вдруг надобность возникнет, вдруг хозяин пожелает что-то спросить у него или дать указание. Но в кабинет его не позвали, не понадобился, и лишь после, когда разговор с Савочкиным закончился, хозяин, проходя мимо, остановился и спросил – как дела? Земляницын доложил: безобразий и происшествий нет, воровства не наблюдается, спиртоносы[11], правда, наведываются, но их, как тараканов, под корень никогда не выведешь… А в остальном – порядок.
– Ну и славно, – отозвался на короткий земляницынский доклад Павел Лаврентьевич, – служи дальше, братец, за мной благодарность не пропадет.
Похлопал по плечу, даже улыбнулся, и пошел дальше.
А вечером сам нашел Земляницына, который безотлучно находился в своей комнатке в конторе, усадил перед собой и приказал: с управляющего прииском, горного инженера Савочкина, глаз не спускать. Куда ездит, какие указания отдает, с кем встречается и о чем говорит – все должно быть известно и доложено ему, Павлу Лаврентьевичу, когда он в следующий раз приедет на прииск.
Приказ хозяина Земляницын принял к исполнению и стал приглядывать за Савочкиным, но ничего странного в его поведении не замечал. Все шло-тянулось по старому, как и раньше, без новостей и без происшествий.
Нарушилось же спокойное течение одинаковых будней по зиме, когда уже выпал обильный снег.
На этом снегу, по лыжному следу, Земляницын выследил спиртоноса, за которым уже давно охотился, но никак не мог поймать. Взял тепленьким, у костра, тот даже пикнуть не успел. Сидел, оглушенный по голове, со связанными руками, и хлопал маленькими глазками, пытаясь понять – что с ним за короткую минуту случилось? А Земляницын между тем, времени не теряя, уже тянул к себе два кожаных мешка, в которых спиртоносы обычно носили спирт. Шили их, как правило, из прочной, чистой кожи, шили крепко, надежно и соединяли между собой широким, тоже кожаным, ремнем. Очень удобно получалось: перекинул через плечо, один мешок спереди, другой – за спиной, и топай, куда твоя душа пожелает.
Спиртонос был невысокого роста, худой, но, видно, жилистый и выносливый, да и не мог он быть иным – чтобы по тайге с грузом шастать, сила нужна немалая. Обо всем этом успел подумать Земляницын, когда потянул к себе мешки, лежавшие в снегу. Потянул и сразу насторожился – очень уж они оказались тяжелыми, и явно не спирт был в них налит. Едва-едва растянул хитрые завязки и обомлел – не спирт плескался в мешках. Оба они были нагружены золотом.
Земляницын затянул завязки, присел на корточки перед спиртоносом, который прижимался спиной к толстой сосне и дергал связанными руками, пытаясь освободиться. Но Земляницын свое дело знал: если уж связал, развязаться – дело дохлое. И спиртонос, видно, понял, что освободиться ему не удастся, перестал дергать руками, затих и даже отвернулся.
– Ну, уж нет, личико-то не отворачивай! Рассказывай – откуда золотишко тащишь?
Спиртонос, упорно не желая смотреть на Земляницына, молчал.
– Ладно, пытать пока не буду, до места доберемся, сам расскажешь. Поднимайся!
Когда спиртонос поднялся на ноги, Земляницын подал ему лыжи, затем навьючил на него тяжелые мешки и заставил идти по проложенному следу – в обратную сторону, к прииску.
Но и там, на прииске, после допроса с пристрастием спиртонос рта не разомкнул. Только отводил злые маленькие глазки от Земляницына да сплевывал на сторону кровь из разбитых губ. Молчал намертво.
Земляницын решил подождать – не ломать же ему ребра, добиваясь, чтобы он заговорил. Запер спиртоноса в подвале на амбарный замок и отправился к Савочкину, чтобы доложить о том, что случилось.
Вот тут-то и начались странности.
Горный инженер, всегда ровный в обхождении и вежливый в разговорах, неожиданно изругался черным словом, засуетился, вскочив из-за стола, и начал перекладывать с места на место бумаги, даже не замечая, что комкает их, словно собирается выбросить. Земляницын, глядя на него, сначала изумился, а после сообразил: испугался Савочкин, сильно испугался, только вот непонятно было – чего именно?
Савочкин, будто прочитав его мысли, закричал:
– Что я теперь хозяину скажу?! Что у меня золото с прииска тащат? И что мне хозяин скажет после этого?!
«Ну, ясное дело, не похвалит, – подумал про себя Земляницын, – но не убьет же до смерти, спиртоноса-то я поймал, золотишко на сторону не ушло… Чего уж так убиваться?»
Но Савочкин продолжал свое – суетился, кричал и время от времени ругался черными словами. В конце концов, прокричавшись, объявил свое решение: о поимке спиртоноса никому не рассказывать, а самого спиртоноса держать в подвале, пока не заговорит и не признается – от кого он золото на прииске получил…
Земляницын о спиртоносе никому не сказал, на дверь в подвале навесил второй амбарный замок, а ключи, для надежности, решил всегда держать при себе, повесив их на пояс.
Да только ключи больше не понадобились. Ночью кто-то выворотил пробои, разломав толстенные бревна, едва не расколов их, вместе с пробоями вытащил замки и унес с собой, попутно прихватив спиртоноса – исчез бесследно худой и злобный, похожий на зверька мужичок, так и не раскрывший рта и не подавший своего голоса.
И снова Савочкин велел молчать Земляницыну и никому о случившемся не рассказывать. На этот раз, несмотря на исчезновение спиртоноса, он не ругался и не суетился, был, как всегда, обходителен, вежлив и успокаивал Земляницына:
– Ты не переживай, хозяину я сам доложу. Если понадобится, я за тебя слово замолвлю.
При этих словах Земляницына будто просекло и озарило: а в глазах-то у Савочкина радость светится! Выходит, что исчезновение спиртоноса было для него не очень-то огорчительной новостью, даже совсем наоборот. Выходит, не зря хозяин велел присматривать за горным инженером.
После случая со спиртоносом Земляницын уже глаз не спускал с управляющего, но ничего необычного ему не открылось: с утра Савочкин был на службе, вечером – домой. Из дома никуда не выходил, гостей не принимал. Но Земляницын, упершись, уже не отступал. Нутром чуял, что на прииске творится неладное и что Савочкину есть что скрывать, имеется причина, по которой ему следовало таиться.
Чутье старого служаку не подвело.
В один из вечеров, проходя, как бы случайно, мимо дома Савочкина, разглядел он цепким взглядом, что под навесом, в затишке от ветра, стоят оседланные кони. С чего бы это? Не поленился, сделал крюк по узкому переулку, перелез через сугробы и подобрался с тыльной стороны к навесу. Убедился, что не ошибся. Пять коней под седлами переступали ногами и под копытами негромко похрупывал снег. Откуда они здесь появились? Савочкин со службы и на службу всегда ходил пешком, а для выездов ему обычно подавали коня с приисковой конюшни, которого запрягали в легкие санки. Значит, гости пожаловали. Кто такие?
Земляницын сел в засаду. Выбрал место за поленницей, откуда видны были навес, двор, крыльцо дома и окна, в которых горел свет. Ждать ему пришлось долго, успел закоченеть на холодном ветерке, но не уходил, потому что был уверен: появятся гости, обязательно появятся. Если бы они на ночевку решили остаться, коней бы непременно распрягли.
Сидел, терпел, ждал.
И дождался.
Стукнули двери, на крыльцо вышли люди. Впереди, с фонарем, освещая себе дорогу, шел Савочкин, и шаг у него был необычный – суетливый, испуганный. Будто перед высоким и грозным начальством услужливо торопился с фонарем, стараясь, чтобы никто не споткнулся. Люди, следовавшие за ним, были спокойны и молчаливы. Одеты по-теплому: в валенках, в добротных шапках и в короткополых полушубках. За спинами у всех имелись ружья.
Быстро разобрали коней, махом запрыгнули в седла, и перед тем, как они легкой рысью тронулись со двора, Земляницын успел расслышать твердый мужской голос:
– И не вздумай с крючка соскочить, господин инженер. Из-под земли выроем, накажем, и – обратно в землю! Понимаешь?
– Понимаю, – донесся в ответ слабый, едва различимый голос Савочкина.
– Вот и хорошо. До следующего свидания.
Савочкин, оставшись один на своем дворе, опустил фонарь, который вздымал над головой, постоял, переминаясь с ноги на ногу, будто ожидал, что всадники вернутся, и лишь после этого, повернувшись, побрел к крыльцу. Скоро окна в доме погасли, и Земляницын, поняв, что на сегодня ничего ему узнать и увидеть не удастся, вылез из засады и выбрался из усадьбы Савочкина тем же кружным путем, через сугробы и через переулок.
Было все это ровно три недели назад. И как раз после того памятного вечера стал Земляницын замечать, что Савочкин при встречах с ним смотрит на него таким манером, словно подозревает в тайном умысле. Разговаривать стал строго, даже сердито. А еще приметил Земляницын, что мужичок Тимофей, который числился в конторе прииска истопником и человеком на побегушках, стал ходить за ним след в след. Словно бы невзначай, будто бы ненароком, но оказывался всякий раз рядом, когда Земляницын с кем-то разговаривал. Ума Тимофей был невеликого, раскусить его слежку особого труда не составило, как не составило особого труда и догадаться, что приказание последовало от Савочкина.
Еще больше насторожился Земляницын, когда на прииск прибыл Жигин, решил, что приезд урядника связан с неизвестными ему обстоятельствами, но дело повернулось совсем иным боком – зачем какие-то люди ночью к Катерине наведывались? Ничего непонятно, одни загадки, вот и решил он открыться Жигину без всякой утайки, надоело одному в подозрениях маяться. Может, Илья Григорьевич даст дельный совет?
– Был бы у меня такой совет готовый, я бы тебе его дал, за так, бесплатно, – усмехнулся Жигин, – да только нету его. Думать надо. А для начала расскажи мне, что за особа ваша Катерина? Откуда она, давно ли здесь проживает и на какие средства?
– Про Катерину никакого секрета нет, – фыркнул Земляницын. – Какой секрет, если она в городе в полюбовницах была у Парфенова. Ну, была и была, а со временем прискучила, вот он ее и спровадил с глаз подальше. Домик выстроил, деньги на прожитье дает, но сам, как приезжает, ни разу к ней не заглядывал, в конторе ночует. А на постой к Катерине Савочкин с недавнего времени стал определять приезжих, которые поприличней. Стряпуха она знатная, все у нее в чистоте и в опрятности, даже и перед высокими господами не стыдно… Погоди, слышишь?
За стенами бани звучали осторожные шаги – снег выдавал, подавая голос.
Не сговариваясь, Жигин и Земляницын мухами слетели с полка в предбанник, но не успели даже дотянуться до своих одежд, потому что сразу же наткнулись на черные зрачки двух револьверов, которые смотрели им прямо в головы. Дверь в предбанник была приоткрыта, а толстый кованый крючок медленно, едва заметно покачивался – его, по всему видать, подняли, просунув в узкую щель лезвие ножа…