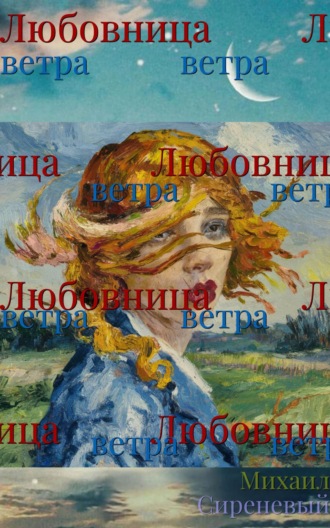
Михаил Сиреневый
Любовница ветра
– Здорова, парни, – вялое рукопожатие. – Привет, мы ещё не знакомы. Меня Женя зовут, – сказал он, предоставляя и Насти свою узкую и длинную ладонь. У многих из тусовки выработалась привычка подавать руку девушкам при знакомствах, как социально-приемлемый предлог для прикосновений, чтобы субъекты воздействия привыкали к телесной коммуникации и в дальнейшем с меньшим отторжением воспринимали прикосновения более интимного характера.
С са́мой что ни на есть дебильной угловатостью и претенциозностью Женя берёт руку Насти, еле сдерживающей улыбку, и пожимает ещё несколько секунд.
– Что у тебя с рукой и со лбом? – спрашивает Максим и кивает на перевязанные бинты, выглядывающие из левого рукава.
– Пустяки, случайно навернулся, – поправляет рукав, – давно с кем-нибудь из наших виделись?
– С Мишей недавно втроём выходили, а так сейчас работа – не всегда успеваем.
– Аналогичная ситуация. Позавчера с Никитой прогулялись – дёрганый он какой-то стал в последнее время, а так ничего нового. А ты, Настя, здесь какими судьбами?
– Гуляю.
– С Максимом и Артуром?
– Ну не с тобой же ей гулять! Что за тупой вопрос? – Артур только набирал обороты, зачастую под конец прогулок он доходил до прямых оскорблений, а Женя либо отмалчивался, либо неумело переводил тему разговора, либо вовсе соглашался, чем ещё больше раздражал и подначивал Артура.
– Действительно, странно сформулировал. Вы через поля познакомились?
– Какие поля?
– Он имеет в виду, что познакомились на улице, – Артур пояснил Насте, – нет, я ходил на комедийное выступление, там и заобщались. Настя начинающий комик.
– Вот как.
– Он преувеличивает, просто хобби.
– Просто хобби может привести к большим результатам, как, например, оно свело меня, Максима, Артура и ещё многих людей вместе, а от этого уже могут происходить кардинальные изменения в жизни.
– И какое у вас у всех хобби?
– Я бы сказал, социальные игры с элементами…
– Любовь – наше хобби, – перебивает Максима Артур и застёгивает до конца свою, только что обнаруженную, приоткрытую ширинку.
– А я бы объединил: игра в любовь – наше хобби, – подытоживает Женя.
– А, так вот оно что, вы профессиональные любовные фавориты, – не без иронии говорит Настя.
– Иногда мне кажется, что андердоги.
– Говори за себя, Женёк. У нас с Максом высокая конверсия.
– Я немного не то имел… – недоговаривает Женя, потому что снова перебивает Артур:
– Лучше расскажи, как у тебя дела с той милой стриптизёршей.
– Видимся, проводим вместе время, спим. Я стараюсь на неё не залипать, поскольку склонен к этому.
– Ещё бы, на неё тяжело не залипнуть.
– Не обижайся, Женёк, – негласная солидарность тусовки заставляет Артура сказать и такое, – но вы всё-таки на разных уровнях, рано или поздно она это прочувствует и уйдёт.
– А чтобы такого не произошло, тебе нужно самому уметь отдаляться и перенаправлять своё внимание и энергию на других девушек.
– Знаю, Макс. Сам чувствую, что привязываюсь к ней, и сегодня как раз думал об отдалении, после того как забегу к ней на работу.
– В смысле?
– Прошлой ночью у нас произошло недопонимание – хочу обговорить с ней это.
– Да ладно тебе, я же говорил по телефону, что мы ненадолго собрались, а ты снова хочешь свалить к ней?
– Мы тебя не собираемся снова дожидаться.
– Так это… вы и не дождались прошлый раз.
– А в этот раз тем более не будем! – всё сильнее раздражался Артур.
Как раз в этот момент все четверо оказались перед небольшой террасой, ступенями, обшитыми зелёным ковролином, массивной дверью из чёрного дерева и вывеской над ней: «Show Girls».
– Ребят, я совсем ненадолго, и пойдём дальше гулять.
– Да ты там на входе будешь минут двадцать только стоять, ждать, пока она спустится. Понимаю, если бы всё-таки договорился со своей стриптизёршей, чтобы нас всех бесплатно пропустили.
– Артур, я же говорил в прошлый раз, что там всё строго с этим.
– Всё в порядке, иди, если так важно, а мы здесь пока постоим-пообщаемся, – после этих слов Максима Женя, заикаясь, что происходило с его речью во время оправданий, скрылся за тяжёлой дверью.
Максим лениво зевнул и повернулся в противоположную сторону от стриптиз-клуба:
– Сразу уйдём или подождём немного?
– Вы что совсем его ждать не будете?
– Настя, он там зависнет на час, не меньше, мы-то его знаем. И вообще, он сам виноват – нас, можно сказать, подставил. Макс его предупредил, что мы недолго гулять ещё будем.
Максим лишь одобрительно кивнул.
– Хотя стойте, – Артур плутовато улыбнулся, – у меня есть идея: давай, Настя, ты туда зайдёшь к нему, он там сейчас будет на входе с охранниками и сисястой хостес ждать, пока его стрипуха спустится, и прямо при них скажешь Женьку: «Папа, я не хочу здесь работать».
Максим взрывается хохотом, следом за ним Артур и Настя. Максим, переводя дыхание, говорит:
– Не-не, Женёк молодо выглядит, скажи: «Дядя Женя, я не хочу здесь работать».
Все трое сходятся на версии Максима, и Настя заходит следом за ни о чём не подозревающим Женей. Через минуту выходит, и, ещё не отошедшие от смеха, парни расспрашивают её.
– Сказала – он покраснел, охранник и хостес стали дико таращиться на нас двоих, Женя что-то замямлил, а я говорю ему: «Ладно, может, ещё передумаю, но тебе не больше двадцати процентов», и ухожу.
Развеселевшая троица шла через островки фонарного света центрального парка. Парни проводили Настю до трамвайной остановки и по-дружески поочерёдно приобняли её, когда подъехал нужный вагон.
– Максим, – повернувшись на ступенях, почти окрикнула его Настя, хотя друзья ещё никуда не уходили, – а как вы расстались с той девушкой?
– Какой девушкой?
– С твоей первой любовью.
– Без слов разошлись на железнодорожном вокзале. Мне нужно было уезжать, а я не мог оторвать глаз от того, как она уходила, ни разу не обернувшись, пока не затерялась в толпе, спешащей на ночной рейс.
Максим и Артур дошли до места, где их пути расходились: хостел – налево, дом Максима – прямо.
– Ну всё, давай, братец, – долгое рукопожатие с обхватом через большой палец и, еле слышимая, картавость, которую Максим замечал только на слове «братец», – я тогда займусь сбором информации по нашему Анатолию, а ты постарайся как-нибудь выцепить эту незнакомку. Сам был бы не прочь приударить, но могу спугнуть, а ты наверняка справишься, да и должен же ты чем-то заниматься, пока я делаю основную работу. Всё-таки неплохо сегодня прогулялись, а?
Пожелав удачи, Максим остался наедине с собой. Дорога представлялась такой долгой и пустой, что проходящие люди и проезжающие машины походили на мошек, уносимых вихрем. Почему-то становилось страшно и одиноко; мысль о тёмной комнате с растрёпанным пыльным ковром, на который падает тусклый оконный свет, угнетала. Он зайдёт, включит грушевидную лампочку и инстинктивно, оторвав кусок от туалетной бумаги, находящейся на комоде возле входа вместе с мылом и зубной щёткой, начнёт давить тараканов, как будто обнаруженных на месте преступления, на полу, стенах, а те, что повыше и на потолке, будут уничтожены старой деревянной шваброй, отчего будут страдать обои, с прилипшими к ним, размазанными насекомыми и пенопластовые плитки на потолке, которые трескаются и опадают на пол. Идти невыносимо, прийти – ещё невыносимее. Кажется, он был бы рад, если бы его сейчас сбила машина, или остановил сомнительный незнакомец и предложил прогуляться до подозрительно тёмного места, или вдруг раздался телефонный звонок и… Максим вспоминает про номер той незнакомки, немного колеблется, но всё же достаёт телефон и нажимает кнопку вызова. Гудок, гудок, гудок-гудок. У него закрадываются сомнения о правильности содеянного, ведь отвечать неизвестному номеру поздним вечером для девушки не лучшая идея.
«Конечно, идиот. Поторопился. Надо было хотя бы с СМС начинать, – думает про себя Максим, – после этого я буду казаться ей навязчивым, соответственно, отталкивающим».
Вдруг очередной гудок прерывается, секундная тишина, и приятный, бархатистый и довольно глубокий голос произносит:
– Да?
– Привет, – произносит Максим и меняет, невидимое для собеседницы, выражение лица на весёлое и обаятельное, так как подобный приём напрямую влияет на то, что и как он будет говорить. Ведь поведение влияет на мышление не реже случаев противоположных.
Молчание в ответ.
«Нельзя её сейчас так потерять, – думает Максим и щёлкает пальцами, – давай, соображай».
– Не подумай, что я хочу нагнать какой-то таинственности, поскольку мы, можно так сказать, заочно знакомы. Я был в компании с одной, как позже оказалось, твоей знакомой в общественном месте, где мы и увиделись. Ты, вполне возможно, не помнишь, но мы встретились глазами, и, если честно, ты так посмотрела на меня, что мне даже немного стало неловко, – каждая отточенная неправда с вниманием к приукрашенным деталям выполняла свою функцию и, по опыту Максима, зачастую работала, – наша общая знакомая тоже заметила тебя, но ты уже пропала с поля зрения.
– Вот как?
– Она лестно отозвалась о тебе как об интересном человеке, и я всё-таки решил взять твой номер у неё.
– Можно мне узнать знакомую?
– Конечно, ведь это она во много настояла на том, чтобы я тебе позвонил и предложил встречу, вот только попросила не называть себя, потому что хочет устроить сюрприз, и, по правде, этого тебе говорить я не должен был, – в данный момент для Максима было приоритетной задачей: не спугнуть её и любыми способами вытащить на встречу, а там, при умении адаптироваться и находить нужный подход, он сможет выкрутиться почти из любой ситуации.
– Значит, у нас теперь есть общий секретик?
«Она принимает правила и подыгрывает. Интересно», – думает Максим и отвечает:
– Не знаю, почему, но чувствую, что завтра ты не подведёшь.
– А знакомая-то знает, что уже завтра?
«…или просто посмеётся и продинамит, что было бы ожидаемо, – в таких случаях шанс успеха равен удавшейся холодной телефонной продаже какого-нибудь барахла случайному абоненту», – приходят ему в голову неутешительные предположения, но Максим продолжает:
– Если ты так хочешь, то можем встретиться вдвоём, но для первого раза я бы предпочёл менее интимное общение, учитывая, что я уже с ней договорился.
– Я, конечно, эгоистка, но не настолько, чтобы перетягивать всё одеяло на себя, тем более когда идёт речь о такой хорошей знакомой.
– Не переживай, у меня ещё отопление не отключили.
Из трубки доносится приглушённый смешок, а далее диалог превращается в фехтование колкими сарказмами:
– Молодец, выкрутился.
– Я так рад, что ты это заметила и высказала, поскольку мне очень важно мнение других людей.
– Полагаю, такому обаятельному молодому человеку не привыкать выслушивать похвалу от противоположного пола.
– От такого проницательного противоположного пола ещё не доводилось.
В динамике телефона слышится неразборчивая речь, безусловно, мужского голоса, следом самой девушки, такая же невнятная из-за отдаления от телефона или его прикрытия ладонью.
– Слушай, – снова отчётливый женский, – так уж и быть, согласна завтра встретиться.
– Отлично. Я до восьми вечера буду работать, думаю, в полдевятого пересечёмся.
– Где?
– У меня место работы недалеко от площади девятисот пятого года – предлагаю на ней.
– Хорошо. Только ты не представился; меня тебе уже назвали, наверное, если всё так, как ты говоришь, но могу продублировать: Варвара Андреевна Вишневская.
– Приятно ещё раз познакомиться! Можно просто Максим.
– Очень приятно, просто Максим! Только не забудь завтра взять половинку яблока.
– А сейчас я как бы должен спросить у тебя: зачем, и почему только половинку?
– Ты много знаешь назначений яблока?
– Ладно, а почему не целое?
– Чтобы это не выглядело, как элемент жертвенности или подарок, чтобы мы были на равных – для тебя же стараюсь, – из телефона снова стали слышны другие голоса, на этот раз не только мужской.
– Не думаю, что…
– Извини, мне нужно бежать, увидимся.
Максим остался наедине с парой быстрых гудков и тем самым деревом, ветви которого видны из окна.
«Странно, в этот раз добрался быстрее», – подумал он.
Варвара Андреевна Вишневская
Как Луны сторона вечно темная –
Так и девы Нью-Йорка глаза:
Вечный вечер, загадочность томная,
Не прочтешь в них ни «против», ни «за».
Под огнями Бродвея бредет она,
Позади оставляя свой дом,
Но улыбка ее – беззаботная,
Так как сердце заковано в хром.
Ей плевать на бродягу бездомного
И на парня из Буффало, где
Подло бросил дурнушку он скромную
И теперь тихо плачет о ней.
Словно листья опавшие, мертвые,
Словно тишь на морской глубине,
Глаза девы Нью-Йорка увертливой
Никогда не заплачут по мне.
Никогда не заплачут по мне.
«V», Томас Пинчон, в переводе М. Немцова.
Ты наскоро надеваешь вязаный свитер, из-под которого, как несцепленное серебряное ожерелье, выглядывают тонкие ключицы. Куда тебе торопиться? От кого/чего бежать? Губы еле заметно подрагивают. Полотенце на межкомнатной двери с вмятиной на уровне колена пахнет хозяйственным мылом. Свет сквозь щели штор играет на красном стеклянном кружке, заполняет пространство ниже, создаёт лампу кровавого свечения. Выше свисает рука с сухой и трескающейся кожей от этого самого мыла; безымянный палец, который в былые времена, такие далёкие, что признать их реальность равносильно поверить выдумке, – украшало тонкое золотое кольцо, теперь же ровно повис над стеклянным. Ты смотришь на мужеподобную грудь, что рывком вздымается и плавно ниспадает. Что ты чувствуешь, злость, обиду, страх? Есть ли там любовь? – да, она в тебе ещё живёт, всегда жила. Если бы сегодня был последний день твоей жизни, ты бы позволила себе вцепиться ногтями и зубами в опухшее лицо и обстриженные волосы, а что будет дальше, тебе уже известно. Ты со слезами рухнешь на колени и начнёшь вымаливать прощение, ладонями по-детски закрывая глаза. Смотришь, и не верится, что внутри этого человека родственная кровь, не верится, что ты можешь быть такой же, чуждой и отстранённой. Твой первый осознанный страх – это холод, пробирающее до косточек, равнодушие. Сколько раз ты испуганно съёживалась перед этим человеком, столько же раз ты ощущала горькую сладость повиновения и самоуничижения, даже будучи совсем ребёнком, ко всему этому, вместе со страхом, в тебе было восхищение той безэмоциональностью, с которой одно живое существо делало больно другому. Родитель, поднимающий руку на своё дитя, мальчишка, роняющий на землю мальчика послабее, девчонка, прилюдно оскорбляющая другую девочку, стая собак, нещадно разрывающая выпавшего птенца, – все эти акторы насилия тайно завораживали тебя и вызывали скрытую зависть, но вопрос оставался без ответа: какую роль играешь ты? И вот, годы сменялись годами, люди – людьми, одни обстоятельства – другими; жизнь крутила тебя, как оторвавшийся сухой листик, закидывала на скользкие крыши, бросала на вязкий грунт, – и вот, стоишь ты теперь перед этим жалким подобием человека, которое через несколько часов проснётся от рвотных позывов и поползёт к унитазу, а после как ни в чём не бывало пойдёт заваривать отвратительно крепкий чёрный чай, стоишь, и страх в обличии безнадёжности подползает к груди и горлу. Царапаешь своими обкусанными, но всё равно красивыми, тонкими ногтями ключицу-ожерелье с болезненным осознанием того, что глубоко внутри вы с этим человеком схожи. Не один раз ты останавливалась у зеркала во всегда тёмной прихожей, потому что в еле заметном отражении видела холод её глаз, твоих глаз. А сейчас ты закрываешь одну сторону лица, лишь бы не столкнуться с мрачным близнецом в ореоле из двух серых курток, тянешься к нижней полке за обувью, где в дальнем углу под слоем пыли стоят кожаные башмачки с квадратными подошвами разной высоты, и почти выбегаешь прочь отсюда. Прочь, потому что воздуха здесь не хватает.
Отрывок записи диктофона №1
1*
Ау, слышно, ау, а то не слышно?2 Я записываю свой звук на диктофоне3. Нет, то есть хочу сказать, чтобы мама и папа, и баба Лара не расстраивались4. Я их люблю и записываю это на диктофоне, чтобы потом был мой голос, потому что не боюсь, если это сделаю. Мама и папа ещё за городом5, а баба Лара уехала в поликлинику, а потом пойдёт в магазин просто-напросто. Ключи от дома у меня, и мне надо выйти [на протяжении 1 минуты и 6 секунд слышно бряканье, должно быть, связки ключей и шуршание от трения материала, похожего на ткань куртки6, следующие 20 секунд различимы шаги в помещении, вероятно, подъезда, после же отчётливо слышен звук ветра и шуршание листвы]. Мне нужно дойти до сопки со страшным обрывом7, чтобы остановить Варю8, и я взял нож9. Вчера я встретил Варю и был очень рад, потому что давно её не встречал. Я очень соскучился по ней, сильно её люблю, не так, как маму, папу или бабу Лару, хотя как будто бы и так, но немного не так. Когда мы были маленькие мама Вари называла меня «женихом»10, потому что мне нравилось дарить ей какие-нибудь вещи и помогать всячески. Было бы хорошо, если бы мы были женаты, я бы её всегда очень любил и никогда не обижал, и ещё всегда помогал. А вчера Варя сказала мне: Ванюша, завтра я пойду умирать на сопку, помнишь, возле которой наши родители отмечали мой день рождения, там ещё был каменистый обрыв, на который нам запрещали подниматься, прости мне всё, если есть на меня обиды, хотя я глупость говорю: откуда в тебе может быть злопамятность, но всё же, и, пожалуйста, не говори больше никому. Я помню, потому что хорошо тогда было, но потом Варя кричала, и мы пошли, а там уже не так хорошо было. Как только Варя со мной заговорила, я просто-напросто улыбался и ничего не говорил, когда она мне это сказала – я продолжал улыбаться и молчать, хотя мне стало страшно за неё, но я не сделал грустного лица, потому что боялся, что могу её расстроить. Она быстро ушла, и тогда я стал сильно расстраиваться и думать о ней. Ночью мне не спалось, и я чуть не проговорил бабе Ларе, что переживаю за Варю и готов сделать это за неё. Ей бы не понравилось, да, я знаю, бабушка и мама с папой отговаривали и запрещали мне видеться и общаться с Варей после тех двух смертей, из-за которых стали плохо говорить о Варе11, а я знаю, что было не так, и Варя не виновата. А вот и мой балкон – мы живём на втором этаже, его можно сразу заметить, потому что только на нём решётки12. Мне нравилось быть летом на балконе, как будто гулять, когда ещё был меньше, особенно нравилось. Мама и папа боялись, что могу выпасть, и сделали закрытый балкон. Мне нравится ходить туда-сюда, мне так думается лучше, и как будто гуляю. И вот я как-то ходил так днём, как будто гулял, и мне камень по голове чуть не прилетает, от решётки отскочил камень этот просто-напросто, я испугался даже, а это мальчишки со двора, Колька и Сашка – знаю их13. Дразнили что-то, «дебилом» называли, они и на улице меня, бывало, докапывали, а после камня я просто-напросто, если их видел с балкона, садился, чтобы видно не было, и сидел. Баба Лара спросит: чего сидишь-то? а я говорю: а посидеть хочу, про камень-то не говорю, вдруг бабе Ларе грустно станет, я её расстрою, и запретит мне по балкону ходить. Простудишься – говорит баба Лара, я горло руками закрываю, а она смеётся и говорит: почки простудишь, кому говорю, вставай лучше или дома сиди. И вот я вставал или домой заходил [звук проезжающих машин]. Ох, ещё бы до сопки дойти правильно и не запутаться, я как будто бы помню дорогу, нет, не саму дорогу, а картинки мест, за которыми находится сопка. Но ничего, если подняться на мост, который над поездами стоит, то с него можно будет уже увидеть сопку, помню ещё, что видно речку, сосновый бор, и уже за ними зелёные верхушки. Недалеко от вокзала школа, где Варя училась, я хорошо помню до туда дорогу, а вот скоро будет моя школа, в которой я впервые познакомился с Вариным братом14. Мы с ним были одногодки, Варя совсем тогда маленькая была, не помнит поди уже ничего, я тоже маленький был, но постарше. Маленький был, но помню хорошо некоторые моменты из жизни, помню даже слова, выражение лиц и напряжение, нет, даже тяжесть и лёгкость в воздухе в различных ситуациях и разговорах просто-напросто. В школе на уроках тяжело запоминалось, до сих пор путаюсь в числах, чтобы посчитать, приходится от одного считать до этого числа, а пока до него считаешь, проходит много времени, а это злит тех, кто спрашивает, начинаешь торопиться и сбиваешься, повторяешь заново, торопишься, чтобы не было тяжёлого воздуха между вами, и снова сбиваешься, поэтому лучше одному считать. А Варин брат, Богдан, вообще не считал, потому что плохо говорил. У него голос без слов был, хлюпал и хлюпал губами просто-напросто15. Мы были в разных классах, но я его часто видел на переменах, он меня узнавал – я по глазам сразу видел и говорил ему что-нибудь или считал. С ним легче говорилось и считалось, а он глазами слушал, они у него такие чёрные были, большие, и кожа белая-белая, даже белее моей. Я и помогал ехать его коляске, насколько сил хватало, только воспитательницы запрещали часто, хотя Богдан мне доверял больше и слушал меня больше других. Головой своей тёмной кивал мне и… Ох, там парни со школы Вари идут, надо обойти их, можно свернуть через дворы. Я помню одного из них, он был другом умершего одноклассника Вари16. Нужно свернуть, а то снова гадости начнут говорить или ещё что сделают [раздаётся свист, а после него неразборчивые голоса подростков]. Ох, нельзя к ним [слышится шуршание ветровки, частые удары подошв об землю и прерывистое дыхание Ивана].
Часть 2
Размалёванный ангел
Дорожный таблоид с одними и теми же рожами в пиджачках каждую ночь освещает мою комнату оранжевым светом. Пришлось купить тяжёлые, плотные шторы, которые этой ночью я не задвинул. Было не до этого, и сейчас тоже не до них. В моих объятиях другая причина бессонных ночей. Её плечико сотрясается в такт слабым рыданиям. Нежный пушок на её коже похож на недоразвитые ростки под апельсиновым солнцем, или на перья, сожжённые огненным небом. С каждым её всхлипом злость и раздражение во мне удваивается. Ничего не предвещало беды: созвонились, встретились, попили кофе на ночь глядя и, как обычно, такси до моего дома. Иные мужчины кидались в неё деньгами, на которые я мог бы жить целый год, ни в чём не отказывая, и не получали и половины того, что получаю я. Я! – который до двадцати лет с девушками боялся заговорить. Когда она сидит на мне, оголяя идеальную грудь, мне кажется, что сам Господь издевается над человеческим родом, даруя своё совершенное творение жалкому невидимке-вуайеристу. В этот раз она была горячее обычного, с бешеной страстью впивалась в меня своими длинными ногтями, готовая на всё, как наркоман, желающий долгожданную дозу, чтобы забыться, найти во мне утешение. А понял я это уже позже, когда всё закончилось: она отвернулась от меня, а через две выкуренные сигареты появился тихий плач. Поначалу я не трогал её; из-за низкой самооценки в голову приходили дурные мысли, что девушка, безусловно достойная большего, с горечью осознала, где и с кем находится. Неприятные домыслы были ошибочны, но всё же осадок из скрытой злобы оставили. Мне потребовалось легонько коснуться тёплого плеча, чтобы разгорячённое тело тут же хлынуло в мои объятия, будто только этого и ожидая. Моё умение (если быть точнее, неумение) успокаивать людей в лучшем случае годилось для вызывания смеха, но, кажется, ей было всё равно – не слушала меня, потому что нуждалась в том, чтобы выслушали её. И я выслушал, на первый взгляд, непримечательную историю о первой любви потерявшей голову девочки к молодому бойфренду, мягко говоря, неджентльменского склада ума; позже о близких отношениях, которые, естественно, «были не такие уж и плохие»; дальше полуслучайному/полупреднамеренному залёту, выкидыше на четвёртом месяце беременности и сверкающих пятках по направлению к «девочке посочнее», и как итог: одиночество, депрессия и самокопание, усугубляющее ситуацию. А сегодня ей приснился тот самый четырёхмесячный выкидыш, после чего весь день превратился в десятки бумажных платочков со слезами и соплями.
Я не знаю, что сказать, могу только продолжать машинально поглаживать её плечо. Меня сейчас больше занимает и удивляет появившееся ощущение неприязни и отвращения к человеку, которого совсем недавно я считал чудесным подарком недостойному получателю. Может быть, я являюсь недостойным получателем только потому, что думаю таким образом? Недостойным, потому что недоношенная ошибка природы, которую рисует моё воображение, вызывает во мне звериный гнев. Я понимаю, что это неправильно, но одного понимания недостаточно, чтобы совладать с эмоциями. Я всегда знал, что подглядывать за писающими девочками неправильно, но в школе, как только появлялась такая возможность, отпрашивался с урока и бежал в одну из кабинок женского туалета, а в начале следующего урока возвращался в класс и корил себя в этом. Я не мог справиться с соблазном похоти, не мог проучить и сдержать свой разум, поэтому наказывал тело: щипал, кусал, бил, пока не чувствовал, что искупил грех. Понимание проблемы без возможности её решения делает только хуже. И чего она вообще ревёт? Радоваться должна. Теперь мне даже лежать с ней рядом в тягость. Надоело слушать эти хныки, будто мне моих проблем в жизни мало.
Поднимаюсь с кровати и говорю, что хочу попить воды, она же продолжает крепко держать мою руку и, когда я уже стою на полу, нехотя отпускает. Теперь я полностью вижу её лицо: оно также красиво, только тушь растеклась, – как будто лик статуи ангела, размалёванный вандалами. Мне нужно какое-то время побыть одному. Смелости не хватит, попросить её уехать, к тому же боюсь, что позже мне может стать одиноко.
Благодаря таблоиду, свет можно не включать. Стакан холодной воды и тишина кухни помогают прийти в себя. Ну и ну. Что это вообще на неё нашло? Зачем мне знать всё это? Разве она не понимает, что мне неприятно слушать про бывших, тем более про страдания по ним? Вот так вот и разрушаются идеалы. Хочешь потерять интерес к какому-то человеку – подумай о том, что кому-то он успел изрядно надоесть. Наверняка тот бывший был полным куском говна, которому суждено сдохнуть в полном одиночестве. Она-то тоже хороша – жертва комплексов и низкой самооценки. Да, у меня самого́ проблемы с самооценкой, но я не компенсирую это тряской голого зада перед толстопузыми извращенцами, которые перед входом в стриптиз-клуб снимают кольца с безымянных пальцев в надежде на то, что какая-то из молоденьких танцовщиц клюнет на его «интересную личность», ведь он же такой успешный и уверенный в себе мужчина. Ну, конечно, не мне же судить, я ведь даже не могу себе позволить сводить девушку в ресторан с видом на весь город, не могу сказать одного прокля́того предложения, чтобы не заикнуться. Конечно, ведь мой удел подглядывать, держась одной рукой за промежность, пока ко мне не снизойдёт девушка с обложки журнала, чтобы в очередной раз напомнить, что я всего лишь наблюдатель. Ещё и этот ребёнок. Он как олицетворение всех моих неудач. Возвращение в лоно религии не позволяет мне поддерживать аборты, но здесь же само провидение вмешалось, чтобы не допустить рождения. Жалко лишь то, что этим проведением был не я, что не мои руки выступали руками Господа. Как бы я хотел обхватить эту тоненькую шейку и сжать до размеров тростинки, покуда головка с выпученными слепыми глазами не повиснет, как шарик на верёвке. Да, это жестоко, но я бы не смог уже остановиться – надоело быть просто зрителем. Все мои проблемы, неудачи, заточённые в этом нежизнеспособном тельце, я бы превратил в лужицу фарша. Вырвал бы с кожей живота пуповину и окунул недоноска в раковину с водой, пускай там булькает, насколько хватает кислорода, как в реке. Как я в свой самый тёплый день из воспоминаний после крещения. Только я тогда родился заново, а этот выкидыш заново умрёт. Выродок, выплюнутый утробой прекрасной женщины, словно выдавленный гной. Когда полости выкидыша наполнятся водой, можно приступить и к более интересному: положить на разделочную доску и начать делать отбивную. Деревянная поверхность имеет мало общего с трупиком, где вместо костей хрящики, поэтому для пущей убедительности я готов одолжить призраку выкидыша свой локоть. Пусть мой кулак перемалывает зачатки костей, органов, кожи в одно плоское месиво. Вот так, вот что значит страдание, вот что значит жизнь! Тебе суждено проспать четыре месяца в темноте и сгинуть в небытие, а мне вынырнуть навстречу к голубому небу и солнцу. Моя мама протянет мне спасительную руку и вытащит из сильного течения, а твоя отдаст тебя врачам в резиновых перчатках, чтобы те закинули уродливое тельце в целлофановый пакет. И никто никогда не придёт к тебе на помощь, а я буду продолжать безнаказанно расплющивать кулаком твой черепок. Больно? – да, я чувствую твою боль, она приносит невероятное удовольствие, но этого мало. Что? Тебе мало? Хорошо, а что насчёт вот этого: деревянная рукоятка, наточенное холодное лезвие. Посмотри, как кухонный нож блестит над твоей немощной плотью. На! И вот лезвие отсекло твою маленькую ручку. На! Животик с кишочками, как растопленное масло. За ножом выпрыгивает красная струйка. Ещё, на! Утони в реке собственной крови! На-на-на! Больно? Что-то не так? Больно! Почему так больно? Что-то, действительно, не так. Голова гудит. Бьют судороги. Боль пульсирует, растекается. О, нет! Весь стол мокрый и липкий. Рука словно горит праведным огнём. Голова кружится. Нет сил стоять на ногах, и я падаю на колени.
Что я наделал?! Искалечил себя. Нет, не себя – его. Кровоточит не моя рука, а это невинное дитя. Раны, кровь, боль. Моя плоть – его плоть. Я не ведал. Будто впал в бешенство, а на глазах пелена. Совсем рассудок потерял. Прости меня! Я ж не ведал, что творю. Теперь-то я вижу, вижу твоё превеликое милосердие, твой светлый лик на этом крохотном теле. Это я выброшенный мертвец, выкинутый на берег жизни. Четыре месяца. Вся моя жизнь – это четыре жалких месяца сна на твоей ладони. Прости мне, ибо я не ведаю, ибо глаза мне застилают слёзы. Бедное дитя, истекающее кровью, как помочь тебе? Всё, что я могу, это прижать тебя к своей впалой груди с редкими волосами, спрятать под нательным крестом. Мой холодный сосок не способен дать пищи. Кровотечение малыша не останавливается. По моему туловищу, трусам, бёдрам течёт кровь, образуя подо мной лужу. Как помочь, как обрести прощение? Вот бы вернуться навсегда в тот день, зайти после обряда крещения в прохладную воду, вынырнуть прыжком к лучам июньского солнца и увидеть недалеко от себя, по колено в воде, живую матушку, такую молодую, красивую, и ухватиться за её протянутую ладонь. А после всегда быть рядом, чтобы она избавила меня от вины и самобичевания, тогда и страх перед жизнью показался бы мимолётной выдумкой. Вот бы ещё предотвратить смерть невинного младенца. Господи, отдай же ему всю мою кровь, оставь мне только слёзы. Пусть моя кровь будет его молоком, а слёзы мои той рекой – моим утешением. Отдай мою жизнь ему, а если это не в твоей воле, то сохрани подле себя его безгрешную душу, а меня – раба своего, прости. И за меня попроси прощения у ребёнка заблудшей женщины. Большего мне не нужно, только дай знак, что простил, а покуда я буду бить челом об землю. Вот так! Пусть это будет моё мученическое испытание. Прямо в лужицу крови. Вот так! Пока кровь с расшибленного лба не соединится с кровью невинно убиенного, покуда не захлебнусь в ней. Вот так! Только дай знак, что простил. Дай знак, Боже! А покуда я буду…


