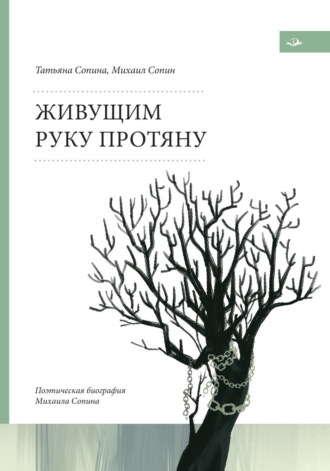
Татьяна Сопина
Живущим руку протяну. Поэтическая биография Михаила Сопина
«Облака, облака…»
Облака, облака…
Над летящими в хмарь колокольнями
Ветры гонят и гонят
Остатки легенд и былин.
Чем-то вы мою жизнь,
Мою ниву судьбы так напомнили,
Сиротливые церкви
И тучи в бездонной дали.
Чувство вечных утрат,
Непонятно каких опасений,
Разобрать не могу —
На каком языке говорят,
Будто я, проходя,
Упаду в гололедье осеннем,
И прольётся навек
Невзначай опрокинутый взгляд.
Мокрый снег полетит
На ресницы
Так грустно, так цепко!
Поплывут облака,
Осенив мой печальный удел.
А над берегом также
Стоять будет древняя церковь,
На которую я,
Проходя по России,
Глядел.
Ослепший лебедь
Здесь я в детстве летал!
И в нежнейшем ракитовом лепете
Есть мой радостный голос.
Так больше теперь не поют.
Злые силы меня
Превратили в ослепшего лебедя
И пустили на волю,
Открыв заповедник-приют.
Крылья волю почуяли,
Если взлетали, вы знаете!
Небо, воля и крылья,
И ветры манили меня.
Ведь глухие сердца
Не сумели лишить меня памяти —
Чем я жил и живу,
Буду жить до последнего дня.
Запах жёлтых ракит.
…За последними, может, метелями,
Там, в суровом краю,
Если слышишь меня,
Ты поймёшь,
Для кого на земле,
Окантованной пихтами-елями,
Пишет тайные знаки,
Шипя по периметру, дождь.
Время жёлтых ракит…
Как мы поздно становимся мудрыми,
Так нелепо приветствуя
Мыслей не наших полон.
Лики храмов бревенчатых,
Слушайте голос заутрени:
Возвратилась душа моя
К вам,
На последний поклон.
«Отшумела весёлая роща…»
Отшумела весёлая роща.
По индеви – копоть.
В обеззвученной серости
Низко кружат сизари.
Тихий облачный край,
Сколько ж мне ещё
Крыльями хлопать,
Чтоб до первой звезды
До своей
Дотянуть, до зари?
Скоро в поле и в рощу
Шарахнется ветер кручёный,
На широтах судьбы,
На долготах звеня на крутых.
Шумовые метелицы —
Белые птицы Печоры
Полетят,
Ослепляя глаза поездам Воркуты.
И по улицам
Древним вечерним —
Прохожие редко.
Вологодские храмы
Оденутся в белый наряд.
И пойду я один
На вокзал,
На восточную ветку,
Пассажирский встречать,
Проходящий «Свердловск – Ленинград».
Знаю точно:
Не встречу ни друга в окне,
Ни соседа.
Растерялись, разъехались…
Мало ли —
Лет пятьдесят.
И назад побреду,
Воротник приподняв,
Непоседа.
Всё никак не доеду домой,
По стране колеся.
«Плачу я, что ли…»
Плачу я, что ли,
Листвою осеннею наземь…
Что-то привиделось,
Что-то припомнилось мне…
Поле ты, поле,
Единственный свет мой
И праздник!
Тени дождей,
Отражённые в давнем окне.
К ним припаду,
Чтобы памятью
Здесь отогреться.
И загудят
Мне в зелёных полях
Поезда! И зазвенят
Проржавевшие
Старые рельсы,
Что заросли
И теперь не ведут никуда…
«Всё прозрачнее…»
Всё прозрачнее
Верб купола.
Что-то рвётся во мне,
Что-то ропщет.
Может, юность
Внезапно взошла,
Словно месяц
Над дальнею рощей?
Кто ты? Где?
Отзовись… Не молчи.
Здесь душа
Что-то ищет незряче:
То ли кто-то
Забытый
Кричит,
То ли кто-то,
Отвергнутый,
Плачет.
«Душа моя…»
– Душа моя,
О чём жалеть?
Так много здесь
Прошло бесследно —
На этой горестной земле,
На рубеже моём последнем…
– О том,
Что билось и рвалось,
О том, что плакало и пело,
О жизни,
Что любил до слёз
Так тяжело и неумело.
«Дни мои…»
Дни мои
Давние,
Словно под сердцем
Осколки.
Гляну в былое:
Как трудно
Прожил на земле!
Что-то забылось…
И всё-таки
В памяти столько,
Что для другого
Хватило б
На тысячу лет.
Прежде,
Чем стану землёй,
Поклонюсь троекратно
Отчему полю,
К которому
Болью приник.
Ты не поток,
Уходящий в меня
Безвозвратно, —
Входишь,
Навек превращаясь
В горючий родник.
Мир мой осенний,
Отрада моя и спасенье,
Видишь —
Над лугом
Над бывшим
Туманный платок…
Мир мой осенний,
Надежды моей воскресенье,
Не обдели меня
Поздней твоей теплотой.
Предвестный свет
«Предвестный свет». Казалось бы, что особенного в этом сочетании? А между тем, из-за этого названия сборника в 1985 году редактор Северо-Западного книжного издательства (г. Архангельск) Елена Шамильевна Галимова попала в больницу.

Появление Михаила Николаевича литературная Вологда восприняла благожелательно, что пермяков удивило. Ещё когда мы готовились к переезду, друзья качали головами:
– Пробиться трудно везде. Но если в других городах могут появиться хоть какие-то возможности, то Вологда – нулевой номер. Там писатели стоят плотной стенкой и «чужих» не пропускают.
Чужих! Но Миша появился по рекомендации непререкаемого в этих краях авторитета. (Там услышал обиходное в этих местах название Союза писателей – «Союзпис». «Союз… как?» – переспросил.)
Его начали печатать местные газеты: «Вологодский комсомолец», «Красный Север». В 1985 году готовилось празднование 40-летия со Дня Победы. Особо патриотично настроенной публики среди пишущей братии не было, и странным образом на эту роль неплохо смотрелся Михаил. Тема Родины у него звучала очень искренне. В нём пробудился маленький солдат сорок первого года, уста которого были зашиты не одно десятилетие, и вот теперь он с каждым стихотворением всё ярче обретал собственный голос!
…Тема войны глазами детей в то время в советском искусстве была уже достаточно развита. Наиболее ярко это проявилось в кинематографии, вершинами можно считать фильмы Андрея Тарковского «Иваново детство» и Элема Климова «Иди и смотри». Не будем сравнивать начинающего поэта со знаменитыми режиссёрами по выразительности и мастерству, но интересно, что он начинает там, где они завершили. Ни у Тарковского, ни у Климова не звучит то, о чём Сопин говорит в стихотворении «Ветераны»: «Опасны не раны, а сердца поразившая ложь!»
Конечно, всё это ещё достаточно декларативно, скорее заявка. Но пройдёт совсем немного времени, и тема станет едва ли не главной.
Перестройкой в обществе ещё и не пахнет, а в стихотворении «Октябрь. Воскресный день…» («Предвестный свет», 1985 г.) читаем:
То в пламень чувств,
То в стылый веря разум,
Юродствуя,
Сметая алтари,
Стремясь со злом —
Предвестный свет
В себе! —
Покончить разом,
Мы столько бед
Успели натворить.
Там же, «Боль безъязыкой не была…»:
…Я сам творил тот суд посильно,
Чтоб смертный приговор отцу
Не подписать рукою сына.
Официальное общество ещё полно самодовольства. Даже мыслящая интеллигенция, собирающаяся на кухнях, видит в своём противостоянии официозу нечто героическое. А Сопин уже без иллюзий: «…Гляну в зеркало. Вздрогну. И сам от себя отшатнусь».
(Хочется высказать замечание относительно его манеры «рваной строки». Многих она приводила в недоумение, мне самой частенько хотелось «ужать». К тому есть и чисто практические соображения: рваная строка занимает слишком много места на странице, а за всё надо платить. Но Миша категорически не соглашался. Он очень большое значение придавал каждому акцентному слову, даже местоимению, вынося их в столбик. Получалось как бы биение пульса.)
…Кожинов переслал свою рекомендацию, адресованную Пермскому книжному издательству, в Архангельск. Сделал несколько поправок (убрал выпады против известных мастеров), а в остальном сгодилось. Вторую рекомендацию дал секретарь Вологодского отделения Союза писателей В. А. Оботуров.
Назначили редактора – Елену Шамильевну Галимову. Это можно было считать счастьем: попасть к специалисту, который так тонко чувствует русское слово! Её профессия была наследственной – отец прославился как исследователь-собиратель поморского фольклора.
Впоследствии она скажет Михаилу: «Ваша книжка была для меня ред- костью и радостью. Не помню уже, сколько лет не работала с таким удовольствием». Другой сотрудник издательства заметил: «Эту книжку можно разорвать по листочкам и раскидать по разным рукописям, а потом собрать и безошибочно назвать автора».
Но работа потребовались большая. Сроки «под юбилей» дали сжатые – два месяца, а рукопись была пухлой. Почти каждое стихотворение возвращалось с почеркушками, восклицаниями-вопросами, плюсамиминусами, замечаниями типа: «А м. б. (может быть), лучше так?». И неоднократно! Долго бились над стихотворением «Ударю в ладони и вздрогну!». Елена Шамильевна считала его для рукописи принципиально важным, а автор никак не мог довести до кондиции.
Оттрубив смену по слесарной профессии, Миша залегал на диван в дальней комнате нашей, уже вологодской, «хрущёвки», закрывал дверь и заполнял пространство табачным дымом. Иногда это продолжалось далеко за полночь. Мы с детьми оставались в ближней: я на диване, один сын на раскладушке, другой на полу…
Миша вспоминает, что жил тогда «на разрыве». К нему ещё никогда не предъявляли сразу столько требований. Очень хотелось, чтобы книжка вышла, и было ощущение опасности, что рукопись изменится к худшему.
Понимал, что она слишком велика по объёму, и было всего жалко. Признавался: когда редактор приняла работу, почувствовал себя настолько измочаленным, что «сил хватило только на то, чтобы выдохнуть воздух, а скажи, что надо переделать ещё раз – рухну и не встану».
Однако сотворчество с Галимовой оказалось на пользу. Пошли новые добротные стихи: «Снега и синицы…», «Всё прозрачнее верб купола…», «Дни мои давние…», «Если выйти в поле…», на фоне их стало терпимее расставаться с более слабыми. В то же время, другие стихи урезались, и не всегда понятно, почему. Так, от «Узкоколейки» был отрезан «хвост», Миша очень об этом жалел. В стихотворении «Плывёт метель над крышей» словосочетание «стоит еврей-скрипач» заменили на «стареющий скрипач» (про евреев писать не полагалось?). Вместо «Роковая звезда бездорожья» стало «Ни огня. Лишь звезда бездорожья…» (Вместо напевности – спотыканье.) Но разве могло быть в нашей бурной жизнерадостной жизни что-то роковым?!
Впоследствии мы узнали, что Елена Шамильевна была ни при чём. Она сама попала с этим сборником «в переплёт». Заставляя Мишу работать, перед своим начальством отстаивала то, что считала важным. Не всегда это было возможным. Потом она говорила: даже то, что в конечном счёте вышло, можно считать прорывом.
Неожиданным препятствием к публикации стало название сборника. Миша назвал его «Предвестный свет», что привело начальство Галимовой в замешательство. Какой может быть предвестный свет, когда и так светло? Это что ещё за намёки? Какие следует ожидать вести? Но тут Миша упёрся. Он стал объяснять по телефону, что это всего-навсего означает свет грядущей Победы для мальчика сорок первого года. Там и строчки в стихотворении («1941») есть: «То знаменье ли, знамя? Предвестный свет грядущего огня…». Объяснение было признано убедительным, и название оставили.
К сожалению, Галимова была первым и последним редактором, которого Миша вспоминал с глубокой благодарностью: «Вечно стою перед ней на коленях».
А для него самого выход поэтического сборника имел ещё одно важное значение: он перестал «укрываться» от собственных сыновей. Раньше мы с ним не говорили детям о прошлом отца, боялись. Ведь они – воспитанники советской школы, и у них могло возникнуть чувство неполноценности, если рядом с именем отца будет «тюрьма, лагерь». Но вот лежит книжка тиражом в пять тысяч экземпляров, на ней напечатано: Михаил Сопин; и теперь он, состоявшийся поэт, имеет право не стыдиться судьбы, высказывать мнение, каким бы непривычным и парадоксальным оно ни казалось!
«Ударю в ладони…»
Ударю в ладони —
И вздрогну:
Какой я счастливый!
Цветёт и шумит
То, что будет
Войной сожжено.
Ударю в ладони —
Обвалится иней,
Как ливень.
С годами – всё тише.
Потом перейдёт в обложной.
Забытое вспомню:
Деревню,
Ребят и салазки!..
Лежанка гудит.
И сижу я —
Ладони к огню.
Заплачу от счастья,
Придумаю нежность и ласку,
Как был я любим,
Проходя по земле,
Сочиню.
Когда от печали —
Ни света,
Ни слов,
Ни спасенья,
Как будто ты загнан
На речку,
На тоненький лёд —
Мне радует сердце
Беседа со степью осенней.
Зажмурюсь – и тут же
Над памятью
Солнце встает.
«Снега и синицы!..»
Снега и синицы!
Живут же —
Такими невинными!
Раскинула чёрный
Судьба надо мной парашют.
Мне снится – не снится
В полуночь
Луна над овинами,
И я на коленях
О чём-то
Кого-то прошу…
Снега и синицы!
Живут же —
Такими беспечными!
Прости меня,
Кто-то,
Не знаю, за что —
Но прости…
И дальше иду
По годам
И с годами заплечными:
Не знал я, не ведал,
Что память
Так тяжко нести.
Снега и синицы!
Живут же – такими весёлыми!
А я прохожу
По размытой зыбучести дня.
И яростно мёрзну,
Шагая горящими сёлами,
И память
Из прошлого
Не отпускает меня…
«Боль безъязыкой не была…»
Боль безъязыкой не была.
Умеющему слышать – проще:
Когда молчат колокола,
Я слышу звон
Осенней рощи.
Я помню —
В зареве костра
Гортанные чужие речи,
Что миром будет
Править страх,
Сердца и души искалечив.
Так будет длиться —
К году год,
Чтоб сердце праведное
Сжалось.
Любовь
Навечно отомрёт
И предрассудком
Станет жалость…
Но дух мой верил
В высший суд!
Я сам творил
Тот суд посильно,
Чтоб смертный
Приговор отцу
Не подписать
Рукою сына.
Лось
Вспыхнет выстрел.
Стает дым зыбучий.
Заскольжу я,
Будто бы по льду.
Закружусь,
Отчаянно и жгуче,
И к земле
Печальной припаду.
Припаду теперь
Уже навеки,
Вечность
Сердцем
Ощутив в ночи,
Как снежок
Опустится на веки,
Птица-ворон
Где-то прокричит.
И заплачу.
Горлом перебитым
Прохриплю
В нетленный
Свет небес
О душе,
Сорвавшейся с орбиты,
В первый раз
О жизни
И себе.
«Лунно. Просветлённо…»
Лунно. Просветлённо.
Тучи дальние.
Вечер тих.
Посвети,
Вечерняя звезда моя,
Посвети.
Через вьюги,
Через поле льдистое
Посвети мне, Русь.
Я приду к тебе,
Одной-единственной,
Сердцем отзовусь.
«Октябрь…»
Октябрь.
Воскресный день.
Воронья стая.
Ну что, душа,
Что стало нам ясней?
Как много вьюг
Легло в судьбу,
Не тая.
И снова – снег.
Октябрьский. Первый снег.
То в пламень чувств,
То в стылый веря разум,
Юродствуя,
Сметая алтари,
Стремясь со злом —
В себе! —
Покончить разом,
Мы столько бед
Успели натворить.
«Ещё люблю…»
Ещё люблю —
Как никогда —
Поля вечерние,
Былинные.
И поезда,
Но поезда
С дымами
Низкими и длинными!
Ещё влекут меня
Пути
И перелески золочёные,
И переклички звёздных птиц
Над бездной
Белою и чёрною.
Еще не кончена страда:
Пою.
Дышу.
Касаюсь озими,
Пока не вымыты года
Судьбы моей
Дождями поздними.
Плывёт метель
Плывёт метель по крыше.
И пляшут во дворе
Снежинки ребятишек,
Как стайка снегирей.
Фруктовые улыбки!
Потоки слов вразнос!
Лишь ветер —
Словно скрипка,
Охрипшая от слёз:
То жалобно, то гулко,
То медленно,
То вскачь…
Как будто в переулке
Стоит еврей-скрипач.
Не тает снег на шляпе
И на воротничке,
И гроздья светлых капель
Застыли на смычке.
«Путь-дорога…»
Путь-дорога
Раскатная, санная,
Лихо под гору
Шла до поры…
Всё ли отдано
Нежное самое
Беззащитным сердцам детворы?
Сколько помнится,
Сколько не помнится!
Оттого-то и сердцу больней —
Всё пронзительней
Свет над околицей,
Чистый свет
Остающихся дней.
«И будет дождь…»
И будет дождь.
И ветер —
Лют, отчаян!
Увижу жизнь —
Как чей-то
Свет в окне.
И навсегда
С былым
Своим прощаясь,
Прощу я тех,
Что не прощали мне.
И будет ночь —
Безбрежная,
Как вечность.
И встану я
У краешка в ночи.
Через обрыв
Печалью человечьей
Мне
Дальний голос
Предков
Прокричит.
Осенней ночью
Тоненькой струною
Порвётся жизнь.
Душа моя
Сгорит
И полетит
Над миром и страною
Печальным светом,
Как метеорит.
Тёмным бродом
Стихотворение (или маленькая поэма) было написано в 1987 году, напечатано в 1990. Однако тогда оно не сопровождалось комментарием о дедах, это всё равно не опубликовали бы. Мы сделали это впервые в Интернете на сайте «Стихи.Ру» в 2003 году и по откликам читателей увидели, насколько это было необходимо. Произведение сразу стало объёмным.
Подлинность в наше время поражает больше, чем даже очень хороший художественный вымысел. Всё, что о дедах – правда. Единственное, что можно добавить – таких судеб по родственным линиям было больше, всех доподлинно Михаил в силу возраста знать не мог.
Наверное, толкований стихотворения «Лунным полем, тёмным бродом» будет много. Я же хочу сказать только об одной фразе:
Два железных
Мне колечка
Молча на руки надел…
Мне это видится обетом молчания, которое наложили деды, сами того не ведая, на судьбу внука. Восемьдесят с лишним лет о таком в нашей стране было опасно говорить. Только сейчас появляются нетрадиционные толкования мотивов восстания Нестора Махно. А что касается внука…
Вольный ветер.
Сам я волен.
Время сгладило межу…
Лунным полем, тёмным бродом
Памяти моих шестерых украинских дедов по материнской линии: Афанасия (пропал в первую империалистическую); Григория и Михаила-старшего – дроздовцев; Никиты – махновца; Петра – деда по прямой линии (в гражданскую – комкор и комиссар, в Великую Отечественную – рядовой, погиб на фронте); Михаила-младшего (при немцах служил в полиции, ездил на белом коне; был арестован СМЕРШем, но освобождён по указанию из Москвы; впоследствии работал начальником смены на шахте «Узловая» и был убит при невыясненных обстоятельствах – похоже, сводили счёты).
Пуля – с фронта.
Тыл – немилость.
Жизнь – ракитовый листок.
Солнце к западу скатилось.
Тёмным бродом
Белый месяц – на восток.
Тучки в небе
Хмарью строгой.
У калитки два коня:
Поджидают в путь-дорогу
Други-недруги меня.
Вьётся Ворскла под горою.
Рожь во поле —
К ряду ряд.
О таких, как я, героях,
Тихо в полночь говорят…
Пропадёшь, метель залает,
Мужики подтянут в лад:
«Ах, зачем ты,
Доля злая,
До Сибири довела».
Так веками и годами,
Выходя за ветряки,
Вложат в песню
Смысл кандальный
Про Сибирь,
Про Соловки.
Так и я.
Того же корня:
Долей, кровью, волей – в масть.
Да не вышло мне – покорно
Здесь вот
Намертво упасть.
Чёрны вороны полями.
Что мне, други, суждено?
За одним столом гуляли,
Пели песни про одно:
Всё про дролю да про волю,
Да растреклятую вражду,
Про могилку под травою,
Коль придётся на роду.
И пришлось бы…
Где ж напрасно
Льётся кровушка ребят:
Кто – за белых,
Кто – за красных,
А всё, землица, за тебя.
Вот и я,
Глухой порою,
Доли злой не сторонясь,
Без призыва стал героем.
Путь – железная стерня.
«Далеко ль, – спросил я, – други?»
Но друзьям не до меня.
Только свистнули подпруги.
Прокатился храп коня…
Старший молвил: «Недалечко!»
Младший в небо поглядел.
Два железных
Мне колечка
Молча на руки надел.
Боль отпустит да нахлынет.
Ни ответа, ни кивка.
Я всё полем да полынью.
Други в сёдлах – по бокам.
Шёл я лесом,
Шёл я лугом.
Годы – речкою круги.
Где-то там остались други.
Лишь прощались – как враги.
Тучи – небом.
Травы – долом.
Ни ночлегов, ни коней,
Ни товарищей, ни дома,
И дороги в память нет.
Вольный ветер.
Сам я волен.
Время сгладило межу.
Тёмным бродом,
Лунным полем
Путь заветный прохожу.
А за речкой, за рекою,
В милой сердцу стороне —
Полно, можно ли такое?
Сон тяжёлый
Снится мне…
«Перед тем…»
Перед тем,
Как душой надорвусь,
Перед смертью хотя б
Распахни мне,
Отечество,
Двери
В Дом Свободы,
В Дом Правды,
Распахни,
Я прошу тебя, Русь!
Мне бы только взглянуть…
Тяжело умирать, не поверив.
Я рождаюсь вот здесь…
Циклы «Я рождаюсь вот здесь…» и «По разломам военной земли» написаны в 1983–1987 годах. Циклами они не задумывались. Стихотворения создавались в разные годы, на самом деле их гораздо больше. Подборки составлены мной, чтобы помочь читателю проследить жизненный и творческий путь.
По ним видно, как быстро рос поэт. Стихотворение «Ветераны» относится к 1983 году. Оно эмоционально и искренне, но ещё достаточно традиционно, плакатно:
За надежды,
Что были до мая,
За убитых и проклятых нас
Я уже никогда не снимаю
Окровавленных
Дней ордена…
Хотя… стоп! Уже здесь есть строчка, резко нарушающая общепринятое в те годы восприятие итогов войны: «За убитых и проклятых нас…».
Роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» был опубликован в начале девяностых годов. Но «Предвестный свет», откуда взято стихотворение «Ветераны», вышел в 1985. Получается, что Астафьев и Сопин, каждый в своём жанре, шли в сходном направлении.
В 1987 году мысль углубляется, а краски сгущаются, становятся мрачнее:
Так народится гриб-гибрид,
Зачатый страхом и пороком.
И мост Истории сгорит,
Края обуглив
Двум дорогам…
Поэт будет заглядывать в Историю не только бесстрашнее и глубже, но и мудрее.
Я по крику,
По хрипу,
По шёпоту
Различу своего и врага… —
пишет он о себе – подростке военного поколения. Несколькими годами позже:
На стон своих я отозвался,
Затем услышал крик чужих.
А потом —вообще:
…Бой отгремел.
В подлунном мире
Ни белых, ни большевиков.
Подобно Марине Цветаевой, он любит жизнь прощанием. Он и в жизни всё время чувствовал себя на краю, от лирического: «Стою над обрывом. Улыбчиво плачу о чём-то…» – до трагического:
Здесь жаждал я воли!
И вот от немыслимой воли,
Как будто у края
Развёрстой завис полыньи.
И я в семейной жизни часто чувствовала возможность близкой разлуки навсегда… Хорошо зная строчки:
Дай силу, мысль моя, заступница,
На самом смертном в жизни рубеже!
(2003 г.)
– я открыла изданный двадцатью годами ранее «Предвестный свет» и даже с некоторым удивлением прочитала почти то же самое:
…Так много здесь прошло бесследно
На этой горестной земле,
На рубеже моём последнем…
Ощущение созрело уже тогда и не отпускает, но с годами становятся более выразительными поэтические средства.
И еще одна особенность, которая сопровождает практически всё творчество Сопина. Я иногда его спрашивала: «Как ты пишешь?» – «А я вижу то, что пишу. Смотрю и описываю». Но, находясь мысленно в прошлом, он всегда знает, чем всё это кончится, и даёт оценку, как правило, жёсткую. Нежность обрывается трагедией:
Гляну в зеркало. Вздрогну.
И сам от себя отшатнусь…
Он почти всегда смотрит на события с двух-трёх точек зрения: из прошлого и настоящего, иногда из будущего. Это делает стихи объёмными, рождает стереоэффект.
Интересно, что в его стихах мало столь любимого всеми пишущими обращения к раннему детству. Это, конечно, не значит, что у маленького Миши не осталось довоенных впечатлений. Но 1941 год дал такой резкий облом, что поэт обозначит другую дату своего рождения:
«Я рождаюсь вот здесь, в сорок первом…»
И самого начала войны в стихах нет. В сорок первом мальчику уже десять лет. Наверняка он слушал военные сводки, участвовал в проводах на фронт. И всё же для ребёнка это пока достаточно абстрактно. Он рассказывал о первом настоящем эмоциональном потрясении: по степи разбегаются кони. Это начинались бомбёжки:
Вбирает даль,
Распахнутая настежь,
Безумный бег,
Срывающийся всхлип.
Им несть числа!
Ночной единой масти
Исход коней
С трагической земли…
(«1941»)
И снова появляется двойное зрение:
Я жив ещё.
И до конца не знаю,
Как это всё
Пройдёт через меня.
Мальчик, конечно, не знает – разве что тревожно предчувствует. А автор знает очень много…
В войну, в двенадцать лет, были написаны первые стихи под впечатлением стихов Виктора Гусева: «А за окном седой буран орал. А за окном – заводы, снег, Урал…».
– Я сидел в хате, а за окном была метель. И вдруг стало что-то возникать в голове… Это поразительно – через полтора десятка лет меня повезут на тот самый Урал под конвоем, но в сорок втором это было смутное ощущение, от которого появилось желание заплакать словами от страшного дискомфорта души. И от этого желания – к первой мохнорылой попытке…
(Из литературной записи «Речь о реке», 1995 г.).


