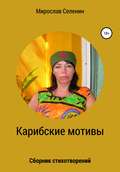Мирослав Селенин
Психоделическая сублимация
Этот мир – тоже вымысел.
ВНУТРИ ДЕРЕВА
Я не знаю, как оказался здесь в столь странном, если не сказать больше, положении. Только открыв однажды утром глаза, я вдруг с ужасом обнаружил, что вместо ставшей уже привычной картины в виде со вкусом обставленной просторной спальни из дуба я очутился в диком лесу, в котором запах сырости примешивался ко всему и был не менее устойчив, чем запах заплесневелых грибов, мхов и лишайников. Чувство несказанного удивления, вначале посетившее меня, сменилось чувством безоглядной тоски сразу после того, как я безуспешно попытался сделать несколько шагов. Обреченным взглядом я обвел окружавшее меня пространство. Прямо передо мной находилась небольшая лужайка, уродливо разделенная заваленным прошлогодней листвой и шишками рвом. Сразу за лужайкой плотной стеной выстроились мощные и довольно неприглядные в свете наступающего пасмурного дня многовековые сосны. Сзади до меня донесся шум набегавшего ветра. Я хотел было оглянуться, но тут же почувствовал, что шея моя неподвижна, точно монолит. Окончательно деморализованный, я попытался было расправить плечи, но, к величайшему разочарованию, не испытал ни малейшего облегчения и не услышал ничего, кроме режущего слух похрустывания не то одеревенелых мышц, не то обветшалых и потому малопривлекательных сучьев…
Не знаю, откуда у меня была такая уверенность, но я, откровенно говоря, нисколько не сомневался в том, что еще совсем недавно я был человеком. А как же иначе? Ведь не мог же я, в самом деле, на протяжении всей своей жизни быть деревом? И потом, если бы я действительно с самого начала был деревом, откуда в моем сознании могли появиться столь явные и весьма занимательные картины из, как мне казалось, моей прошлой человеческой жизни? Ведь если бы я действительно был не чем иным, как только деревом, навряд ли бы я имел хотя бы малейшее представление о том, как устроен человеческий организм, как выглядят современные квартиры, в которых живут мои многочисленные сограждане, и, самое главное, едва ли сумел подумать обо всем этом… ведь если бы я был деревом, то маловероятно, что вообще умел бы рассуждать!
Но я думал, думал об окружавшей меня действительности, о долгих прожитых будто в сильно затянувшемся и запутанном сне годах моего человеческого существования. Я ясно мог представить себе огромную пятикомнатную квартиру, находящуюся где-то на самом высоком этаже современного небоскреба, расположенного в центре огромного современного города, по-видимому, очень высокоразвитой страны. Из окон открывался великолепный вид на построенный из стекла и бетона квартал, подкрашиваемый в вечерние часы акварельно-изящным багрянцем заходящего солнца. Я помнил замысловатое покрытие стен в каждой из комнат, помнил, где когда-то повесил приобретенную на аукционе картину с изображением белого слона, выполненного из нетривиального нагромождения разнообразных геометрических фигур: от конусов-бивней до отрезка-хвоста.
Конечно же, я помнил свою очаровательную… Странно, я очень хорошо помнил свою очаровательную белокурую и длинноногую подружку, но не помнил ее имени! Неважно, ведь она на самом деле была у меня. Мы часто подолгу сидели на огромной тахте, смотрели какие-то бесконечные телепрограммы, пили… пили приятные напитки, после которых сначала очень хотелось заниматься любовью, а потом спать… потом опять заниматься любовью и опять спать – и так до утра, пока не приходила ни с чем не сравнимая истома, троекратно – да чего уж там мелочиться! – стократно усиленная запахом кофе, который приносила мне в постель моя незабываемая… моя незабываемая, по-видимому, Элен.
Было и другое, о чем мой несколько затвердевший и вместе с тем довольно вместительный мозг сохранил легко извлекаемую из глубин непонятного прошлого информацию. Это было на какой-то горной дороге. Мы с Элен ехали на шикарном лимузине абсолютно черного цвета. Я сидел за рулем. Дорога петляла между облаков и скал, время от времени приоткрывая нашему взору ни с чем не сравнимые пейзажи. Тогда я сбрасывал скорость, и мы любовались медленно проплывавшей за окном неподражаемо-девственной красоты природой. Внезапно, как только и бывает в тропиках, а что это были именно тропики, я в этом нисколько не сомневаюсь, судя хотя бы по бурной растительности, на нас опустилась ночь. До отеля, в котором мы остановились, было еще далеко, и я не особенно старался сдерживать резвый нрав автомобиля, легко выполнявшего даже мои самые замысловатые и неожиданные команды. Внезапно, за очередным поворотом в свете фар прямо перед собой я увидел перегородивший путь огромный грузовик. Я нажал на педаль тормоза, но среагировав, по-видимому, уже слишком поздно, оказался здесь, в этом мрачном лесу, без квартиры, Элен, без дурманящего по утрам запаха кофе, без всего, кроме обрывков этих непонятных иногда и мне самому воспоминаний…
Простояв так несколько часов и изрядно промокнув под моросящим дождем, я не без удивления заметил, что несмотря на очевидную, казалось бы, безысходность моего положения в нем есть по крайней мере один неоспоримый плюс: мне не хотелось ни есть, ни пить, мне не было холодно, наконец… Мне было, если хотите, все равно… если бы, если бы, конечно, не было так противно! Боже, как мне хотелось плюнуть на изрядно уже опостылевшую мне лужайку с ее уродливым шрамом-рвом, надвое рассекшим ее одутловатое от чрезмерного количества потребленной влаги лицо, на эти по-военному одинаковые и оттого быстро надоевшие мне сосны. Мне очень хотелось сделать хоть что-нибудь, но я, увы, не мог пошевелить – чуть не сказал было “пальцем” – не мог пошевелить даже веткой. Ветер – вот кто делал за меня это, вальяжно и беспардонно играя моими листьями-волосами, подобно тому, как некогда, в мою бытность человеком, некоторые, уж не знаю, кем себя возомнившие люди, также вальяжно и беспардонно играли судьбами целых народов.
Так прошло несколько дней, в течение которых я безуспешно пытался ответить на вопрос, как меня угораздило вляпаться в такую, прямо скажем, нестандартную и малопривлекательную историю. По ночам мне очень часто и, признаюсь, тщетно хотелось закрыть глаза и хотя бы во сне представить себя вновь наедине с моей милой и незабываемой Элен. Глаза – если они вообще у меня существовали – не закрывались, а мои свидания с Элен рисовались мне в столь кощунственном виде, что я не рискну воспроизводить их во всех подробностях. Достаточно сказать, что на свидания с очаровательной девушкой в моих эротических грезах приходил не я прежний, в пижонском костюме и до блеска начищенных ботинках, а я – как бы это поточнее выразиться? – я теперешний, эдакий лаконично-приветливый и вместе с тем слегка эгоцентричный дуб.
Став, по иронии судьбы, деревом, я напрочь лишился всех тех приятных мелочей, на которые не обращал никакого внимания в бытность человеком. Мне не хватало не только Элен, ароматного запаха приготовленного ею кофе, мне не хватало и многого другого – главным образом, всей этой малопонятной и зачастую бесполезной суеты, которой до краев была наполнена моя прежняя человеческая жизнь. Ранее раздражавшая меня беготня, казалась мне теперь одним из наивысших земных наслаждений. Только будучи вкопанным в землю, точно столб, я до конца понял, чем статика отличается от кинематики. Возможно, если бы не закон сохранения энергии, я чувствовал бы себя несколько спокойнее. Но этот проклятый закон уже существовал для меня не только понаслышке. Временами меня так и распирала избыточная энергия, которую мне не на что было израсходовать. Я не мог даже – представьте себе! – надеть спортивный костюм, кроссовки, выйти на улицу и совершить небольшой моцион по живописному парку, отличавшемуся от моего теперешнего дремучего леса, как небо от земли! Не мог выйти в театр, зайти в казино и поставить на черное последние пятнадцать долларов, не мог сесть в самолет и улететь туда, где не растут такие гигантские уродцы, как я, а на фоне пальм и цветущей азалии гуляют темнокожие и белозубые женщины, легко и элегантно играющие мужчинами, морем и ветром точно так же, как и всем остальным.
Внезапно ход моих мыслей прервала появившаяся на соседнем дереве белка. В моем ограниченном жизненном пространстве это событие по значимости без всякого преувеличения можно было бы сравнить с наступлением выходного дня, когда можно себе было позволить встать на несколько часов позднее, чем обычно, включить телевизор и неспеша наслаждаться многочисленными развлекательными программами, изрядно украшенными обворожительными улыбками неподражаемых шоуменов. Иначе говоря, появившаяся на соседнем дереве белка привнесла в мой скучный и неподвижный мир, казалось, напрочь уже позабытую атмосферу праздника. Ловко работая челюстями, она в считанные секунды распотрошила довольно аппетитную шишку, после чего как-то странно и выжидательно посмотрела в мою сторону, как бы прикидывая, стоит ли вообще связываться со мной или нет. После недолгого колебания белка совершила умопомрачительный прыжок и – о, Господи! – не успел я и глазом моргнуть – оказалась у меня на… на… – так и хочется сказать “на голове” – на кроне.
– Брысь! – почувствовав, как она беспардонно копошится в моих волосах-листьях, что было мочи заорал я.
Однако похоже, что никто, за исключением неизвестно откуда набежавшего ветра, не услышал моего истошного крика. В этот момент я, как мне кажется, до конца ощутил всю беспомощность моего положения. Я не мог противостоять ничему и никому, даже такому безобидному и игривому существу как белка. От хождения ее когтистых лап у меня сильно начала – или мне так показалось? – сильно начала чесаться правая сторона кроны. В бытность мою человеком я, не раздумывая, поднял бы руку, взял белку за шкирку, отшвырнул ее в сторону и не без удовольствия почесал раздраженное место. Но сейчас, сейчас я не мог ничего. Я был слабее белки, слабее мухи, я был слабее самого себя!..
Когда-то очень и очень давно, должно быть, еще до Элен, я занимался парашютным спортом. Я видел небо так близко, как никто другой. Да-да, тогда я умел не только ходить, бегать и прыгать, тогда я умел еще и летать. Мне никогда не забыть это ощущение свободного падения, когда с гулом, сравнимым разве что с ревом реактивного двигателя, Земля всей своей массой надвигается на тебя, бросая вызов, который невозможно не принять. Падая вниз, ты поднимаешься вверх, чувствуя, как кровь во сто крат быстрее течет по жилам, а мысль, воплощенная в одном бесконечном движении, сливается с телом в непререкаемом моменте истины…
Однажды, не знаю, правда, было ли это на самом деле или все же пригрезилось мне, – мой парашют не раскрылся… Стропы спутались, и мое свободное падение затянулось дольше положенного. Расскрылся, слава Богу, запасной парашют, но все же несколько долгих месяцев после этого прыжка я был прикован к постели, и мое тогдашнее положение казалось мне практически столь же безысходным, как и нынешнее, за исключением, пожалуй, одной существенной “мелочи”, что тогда я все еще оставался человеком, а сейчас окончательно превратился в дерево. Тогда у меня существовала пусть призрачная, но надежда когда-то подняться с постели, сделать несколько сначала робких, а потом и более уверенных шагов вперед навстречу своей дальнейшей неизбежной судьбе, в то время как сейчас у меня не существовало – точнее не могло существовать! – на это никакой надежды. Я стал деревом, а деревьям, как известно, не пристало ходить и делать многие другие столь привычные для людей вещи.
“А что если, – мелькнула у меня в голове какая-то еще, по-видимому, не до конца оформленная мысль, – что если все эти окружающие меня деревья, травы и песчинки, что если этот убогий ров, уже изрядно мне поднадоевший, точно так же, как и я воспринимают и чувствуют происходящее? Что если все они только прикидываются неодушевленными и слепыми? А что если на самом деле это не так?”
Представив на минуту, что многочисленные сосны, столпившиеся за лужайкой, в течение уже нескольких дней не без интереса разглядывают меня и обсуждают мои достоинства и недостатки, я даже несколько оробел, ибо никогда в жизни – ни в прошлой, ни в настоящей – не тяготел к публичным выступлениям и не был замечен в стремлении к завоеванию дешевой популярности. Неожиданно мне стало стыдно за мое несколько неэтичное отношение к белке. По-видимому, мне не следовало так бесцеремонно пытаться прогнать ее. И это дурацкое “брысь!”, брошенное мною скорее по инерции, чем по злобе, каким-то нехорошим оттенком раскаяния пронеслось по глубинам моего испещренного морщинами многолетних событий ствола. В смущении я попытался отвести взгляд в сторону от множества проницательных глаз – если таковые у них, конечно, были! – моих не в меру любознательных соседей, но тут же понял всю бесперспективность подобного рода попыток.
Раньше я не причинял белкам зла, да и людям, по большому счету, тоже! Быть может, только один раз в детстве, когда я больно избил ногами тринадцатилетнего мальчугана, попытавшегося без спроса прокатиться на моем велосипеде. Я не знаю, что на меня тогда нашло, но я рассердился так, что когда он упал, я еще долго бил его по различным частям тела. И чем громче он кричал: “Пожалуйста, не надо, не надо!”, тем сильнее становились мои удары. Когда он затих, я вдруг опомнился, понял, что совершил нечто ужасное и пустился прочь скорее не от себя самого, а от того, кто еще несколько мгновений назад грязно посягал на мой велосипед, а теперь корчился от боли, настигнутый неотвратимым наказанием.
Став дубом и ощутив весь драматизм неподвижности, я как-то непроизвольно вспомнил еще один малопонятный и ставший уже зарастать заплесневелыми пятнами прошлого эпизод. Не знаю, почему, но я, в прошлой моей жизни, очень негативно относился ко всему ветхому и, в особенности, старикам. Их беспомощность и, если хотите, неподвижность столь сильно раздражали меня, что как-то под вечер, случайно зацепив плечом неизвестно откуда подвернувшегося мне под ноги пожилого мужчину, я вместо извинений неожиданно для себя самого довольно зло и громко выкрикнул:
– Смотри, куда ползешь, черепаха!
Черепаха! Черт дернул произнести меня тогда эту фразу. В течение следующих нескольких дней я безостановочно корил себя за проявленную бестактность. Я даже пытался найти утешение в вине, к которому сызмальства испытывал довольно стойкое отвращение. Я, такой молодой и энергичный, толкнув старика, казалось бы, мог просто извиниться, а я… я зачем-то назвал его черепахой. И вот теперь, оказавшись в положении, когда торопиться уже никуда не нужно, я вдруг до дрожи не то в коленках, не то в корневище еще раз довольно отчетливо увидел покрытую туманной завесой малопонятного прошлого нелепую и довольно гнусную картину нет не стариковского, а скорее моего падения.
Чтобы хоть как-то отвлечься от нерадостных мыслей, я подумал, что было бы со мной, окажись я на поверку не дубом, а, скажем, той же самой черепахой. Плевать на то, что мне пришлось бы таскать на спине неуклюжее и, наверное, довольно тяжелое сооружение, вытягивать шею и озираться по сторонам в поисках неизбежных в любой, не только черепашьей, жизни подвохов. Главное в том, что, несмотря на все эти мелкие неудобства, я все-таки мог бы двигаться, в то время как сейчас, сейчас я мог разве что только грезить или пытаться что-то вспомнить, несколько театрально шевеля ветками и покачиваясь в такт неугомонному задире-ветру.
А еще, услышав как-то легкое постукивание капель дождя по моим листьям, я неожиданно впомнил, как однажды мы с Элен, вернувшись с вечеринки, разгоряченные классным вином, поддавшись какому-то безрассудно очаровательному порыву, скинули с себя одежду и, вбежав в изысканно отделанную мрамором ванную, принялись дурачиться под душем, как если бы мы были не взрослые мужчина и женщина, а совсем еще несмышленные и оттого беззаботные дети. Сейчас, увы, я вряд ли мог бы порезвиться даже в том случае, если бы мне вдруг приглянулась одна из этих кокетливо покачивающих передо мной своими псевдобедрами молодых сосен. Единственное, что я, пожалуй, мог бы сделать, чтобы хоть как-то привлечь ее внимание, так это посильнее тряхнуть вдогонку ветру моей могучей шевелюрой-кроной, обдав чаровницу весьма отдаленно напоминающей брызги шампанского летней дождевой водой.
“Кстати, после дождя очень скоро должны появиться грибы,” – подумал я. И действительно не прошло каких-нибудь пяти-шести часов, которые совсем не запомнились бы мне, если бы не два совиных глаза, пристально смотревших на меня из кромешной темноты, как первые же лучи восходящего солнца подтвердили правильность моего предположения. Туман и приятно обволакивающая все члены сырость вкупе со свежим запахом нарождающегося утра сделали меня несколько веселее обычного, и я, увлекшись, стал методично осматривать поляну, надеясь под плотным слоем травы, затейливо приукрашенной серебряным блеском росинок, увидеть пробиваюшуюся наружу маслянистую, а, может быть, и бархатистую шляпку. Вскоре мои усилия были вознаграждены, и – вы не поверите! – прямо у своих ног – или как бы это поточнее выразиться?! – я заметил великолепный белый гриб. Естественно, он показался мне ввиду моих собственных гигантских размеров столь маленьким, что я чуть было не прослезился от некоторого разочарования. Но тем ценнее, тем ценнее была моя находка.
В течение следующих нескольких часов я, не отрываясь, смотрел на этот гриб и готов поклясться, что видел, как он растет буквально у меня на глазах. “Ах ты, шалун!” – снисходительно прошептал я, или, по крайней мере, мне показалось, что я что-то якобы прошептал. Боже, как мне хотелось нагнуться, потрогать его упругую шляпку, очистить ее от травы и любоваться, любоваться совершенством моего маленького лесного друга. Расслабившись, я как-то не придал значения назойливому хрусту сучьев, раздавшемуся у меня за спиной. С каждой минутой хруст этот становился все ближе и ближе, и я, исполненный какого-то дурного предчувствия, тщетно силился обернуться назад, чтобы понять, что же является причиной этого зловещего хруста?
Однако буквально через несколько минут мучившей меня неизвестности пришел конец. Нет! Ради всего святого, только не это! На лужайку прямо передо мной вышел одетый в серый плащ и высокие болотные сапоги мальчик, почему-то напомнивший мне того самого мальчишку, который когда-то давно в моей прошлой человеческой жизни так грязно и беспардонно посягал на мой велосипед. В правой руке он держал длинную палку, а в левой – огромную корзину, наполовину заполненную грибами. Остановившись, чтобы перевести дух, он не без интереса посмотрел в мою сторону, и на какую-то долю секунды мне даже показалось, что он узнал меня.
– Не надо, – попросил его я.
Но он не услышал моей просьбы. Напротив, взгляд его скользнул вниз по моему стволу, и уже через мгновение в нем появились нехорошие плотоядные искры. Парень сделал несколько шагов мне навстречу. Переложил палку из правой руки в левую, достал из кармана нож и, присев на корточки – о ужас ! – хладнокровно в мгновение ока срезал найденный мною белый гриб и, аккуратно положив его в корзину, направился дальше.
– Убийца! – крикнул я ему вслед, но тут же пожалел, потому что парень неожиданно развернулся, подошел вплотную ко мне и резко вонзил нож чуть ниже моей предпоследней нижней ветки.
Скорчившись от боли, я подумал, что вот-вот упаду. Из последних сил я размахнулся, но не ударил, а лишь слегка оцарапал его ненавистное молодое лицо.
– Вот дьявол, – вытирая проступившую на щеке кровь, в свою очередь, возмутился он, и еще раз продырявив мою кору остро отточенным лезвием, исчез, унося с собой частичку моего эфемерного лесного счастья.
Когда-то, прилично заработав на одной спекулятивной операции, я подарил Элен часы с золотым браслетом, украшенным несколькими изящной огранки бриллиантами. Не знаю, но так уж устроен – чуть было не сказал “дуб” – так уж устроен человек, что иногда его необъяснимо тянет совершать безумные поступки.
– На эти деньги, – резонно заметила Элен, – мы могли бы купить новый спальный гарнитур. И вообще, – не без грусти посмотрев на меня, добавила, – дарить часы – нехорошая примета. Это к разлуке.
– Не волнуйся, дорогая, – нежно обняв Элен за талию, парировал – или мне кажется, что парировал? – я, – если и стоит верить в приметы, то только в хорошие.
– Ладно, это я так, – согласилась Элен и, примерив часы, снисходительно улыбнулась. – Время пошло!
Зря, наверное, она сказала тогда эту фразу, а, может быть, – кто же теперь разберет? – может быть, зря я, действительно, подарил ей эти чертовы часы?! Как бы то ни было, через две недели после этого злополучного дня мы отправились с Элен в отпуск, сели в ту самую обреченную машину, выехали на извилистую горную дорогу и, о чем я уже рассказывал, разбились и расстались, наверное, навсегда. Не знаю, куда попала Элен. Надеюсь только, что ей повезло несколько больше, чем мне. Надеюсь, что она не лежит и тем более не стоит без движения точно так же, как я, а по-прежнему продолжает жить полнокровной жизнью в шикарных аппартаментах в далекой, но, по-видимому, очень богатой стране. Мой же удел, и временами мне кажется, что так теперь будет всегда, торчать здесь посреди этого безликого скопища вечнозеленых и широколиственных молчунов, кичащихся своей внешностью и оттого еще более нелепых и бесперспективных.
– Знаешь, – услышал я за спиной чей-то прокуренный голос, – мне кажется, это то самое место.
– Что вы! Уверяю вас – вы ошиблись, – не оборачиваясь и в очередной раз предчувствуя нечто неприятное пробормотал я.
– Да-да, это именно оно, – не обращая никакого внимания на мои реплики, ответил другой еще более прокуренный голос. – Будем начинать?
– Будем начинать – произнес неприятный некто и бросил на землю что-то увесистое, больно задевшее мою расшатанную нервно-корневую систему.
Нак какое-то время голоса стихли, и я не без содрогания прислушался к странным едва доносящимся до меня звукам. Сначала, как мне показалось, это был звук металла, а чуть позже – звук переливающейся жидкости.
– Готов? – вновь прохрипел первый прокуренный голос.
– Готов! – бодро ответил ему второй.
“Готов к чему?” – судорожно перебирая варианты, подумал я, но так и не успел ответить на этот вопрос, так как почувствовал, что двое незнакомцев перемещаются в сторону моей вздымающейся от волнения груди. Предполагая нечто ужасное, я осторожно скосил взгляд в их сторону и тут же зажмурился, заметив в руках одного и второго зловещие бензопилы. Остановившись прямо передо мной, двое бородатых мужчин еще раз внимательно оглядели меня не то с ног до головы, не то от корней до кроны и, взревев моторами адских инструментов, безжалостно врезались в мое тело остроотточенными лезвиями.
– Не надо! Остановитесь! – превозмогая дикую боль, что есть мочи крикнул я. – Я здесь, здесь внутри дерева!
– Ты слышал? – вынув лезвие из моей крово- или сокоточащей раны, спросил более молодой из моих палачей.
– Что? – спросил другой, ни на секунду не прекращая экзекуции.
– Он здесь, здесь внутри дерева!
– Ну и что, – не без укоризны заметил первый, – когда ты соглашался на эту работу, разве ты не предполагал, что он может быть именно здесь?
– Да, но… – хотел было что-то возразить своему более опытному напарнику лесоруб-правдоискатель, но, очевидно передумав, как-то еще более нагло и воинственно впился лезвием бензопилы в мои рвущиеся на части внутренности.
Прохрипев несколько мгновений я в последний раз собрал не то в легкие, не то еще в какие-то неведомые части моего исстрадавшегося организма побольше воздуха и, издав наверное самый истошный крик в моей жизни, потерял сознание…
* * *
Когда я очнулся, то увидел, что лежу рядом с такими же аккуратно обструганными чурбанчиками, как и я. Передо мной ласково потрескивает камин. Обстановка гостиной кажется мне до боли знакомой. Внезапно в гостиную входит Элен. О Боже! Чувство несказанной радости переполняет меня. Я пытаюсь подняться, чтобы броситься ей навстречу и стиснуть ее в своих объятиях, однако какая-то неведомая сила останавливает этот мой самый искренний и беззаботный порыв. И, по-видимому, останавливает она меня совершенно правильно, потому что сразу вслед за Элен входит совсем незнакомый мне мужчина и делает то, о чем я только что набрался смелости помечтать. Он обнимает Элен за талию, притягивает ее к себе, и через несколько мгновений – о ужас! – их уста сливаются в страстном продолжительном поцелуе.
– Стерва! – трепеща от негодования, кричу я. – Как же ты можешь?!..
– Извини, дорогой, мне кажется, здесь кто-то есть, – обернувшись на мой крик, реагирует Элен, – подожди минутку, сейчас я вернусь, – и, сделав несколько шагов в моем направлении, берет меня за голову и, в последний раз нежно взглянув на меня большими голубыми глазами, хладнокровно бросает в камин…
ЧУДНОЙ ПАРИКМАХЕР
Со стороны Зигфрид Шауфенбах мог показаться вполне добропорядочным гражданином. Да он по существу и был добропорядочным, если бы… если бы не одно “но”… Зигфрид Шауфенбах проживал с тремя взрослыми дочерьми в небольшом городке в предместьях Берлина. Имел собственный добротно построенный дом с великолепно ухоженным участком, налаженное, перешедшее ему по наследству от отца дело и неугомонно, несмотря на довольно почтительный возраст, веселый нрав. Как и полагается любящему отцу, Зигфрид Шауфенбах был весьма озабочен проблемой замужества своих засидевшихся в невестах дочерей. Эта, пожалуй, последняя из неразрешенных им в жизни проблем настолько сильно беспокоила его, что заставляла нервно дрожать его главное человеческое достоинство – искусные руки виртуозного парикмахера.
Первые признаки с годами заметно усилившейся дрожи появились у Зигфрида Шауфенбаха тогда, когда его старшей дочери Гретхен исполнилось восемнадцать лет. Гретхен была довольно привлекательной и уверенной в себе девушкой. В ее голубых и оттого не по-земному обворожительных глазах игриво поблескивали огоньки сумасбродства. Поклонники, если и не выстраивались очередями вокруг респектабельного дома Шауфенбахов, то, по крайней мере, регулярно присылали Гретхен письма с восторженными объяснениями в любви, которые рассудительная девушка сортировала по первым буквам фамилий ее воздыхателей и аккуратно складывала в довольно вместительную шкатулку, запиравшуюся на ключ. Ключ этот предусмотрительная Гретхен все время держала при себе, однако это не мешало двум ее не менее одаренным природной смекалкой и очарованием сестрам – Кларе и Фелиции – быть в курсе всех без исключения любовных похождений своей старшей сестры.
– Ах, папа! Они такие назойливые, – частенько жаловалась сердобольному отцу Гретхен, – мне кажется, они тайком читают посланные мне письма!
– Ничего, ничего, деточка, – нежно поглаживая белокурую голову дочери, приговаривал Зигфрид, – в таком маленьком городке, как наш, это для них едва ли не единственное развлечение. Будь снисходительной – ведь ты у меня такая умница.
Шли годы. Руки парикмахера Шауфенбаха дрожали все сильней. Шкатулки, похожие на ту, что некогда была только у старшей сестры, появились сначала у Клары, а полтора года спустя и у Фелиции. Теперь уже и Гретхен знала, чем себя занять в перерывах между учебой в Берлинском университете и выяснениями отношений с поклонниками. Застав как-то навзрыд рыдающую в своей спальне Клару, не то чтобы мстительная, а скорее излишне педантичная Гретхен небезосновательно заметила:
– Милая Клара! Когда-то, в случаях моих разногласий с парнями, вспомни, ты и Фелиция были крайне ироничны. Сейчас ты на собственном опыте смогла убедиться в том, сколь лживыми и жестокими могут быть мужчины. Позволь и мне, несмотря на то, что по-сестрински мне хочется посочувствовать тебе, немного повеселиться и сказать, что ты такая же никому не нужная дурочка, какой была я в твоем романтическом возрасте. Дальше в жизни, поверь, тебя будут преследовать одни разочарования, и даже порывистые, точно шквальный ветер, периодические приступы страсти никогда не смогут окончательно их заглушить.
– Ты врешь, ты все врешь! – поднимая на сестру заплаканные глаза, сказала Клара. – Ты, верно, думаешь, что самая умная из нас?
– Я думаю, что мы очень похожи, сестра, и то, что случилось со мной, непременно произойдет сначала с тобой, а чуть позже наверняка и с Фелицией – вы разочаруетесь в мужчинах точно так же, как сделала это когда-то я, вы будете искать их внимания скорее просто так, по инерции, но никогда вам не суждено будет найти той единственной истинной любви, о которой раньше мечтала и я.
– Почему ты так уверена в этом? – несколько успокоившись, спросила Клара.
– Гены!
– Что? Какие еще гены?
– Папины, – пояснила Гретхен, – ты разве не чувствуешь, что этот весь его показной юмор и благодушие – не что иное, как защитная реакция на неудовлетворенное либидо?
– Глупости, Гретхен, – услышав малопонятное слово, мгновенно вышла из депрессивного состояния Клара, – ты явно перечитала заумных книг.
– Что ж! Не веришь – твое право, – парировала Гретхен. – Только, поверь мне, что через какое-то время то же самое произойдет и с Фелицией.
– О, Господи!
– Да-да, и тогда у отца руки станут трястись так, что он не только не сможет стричь людей, но и ложку до рта не сумеет донести.
– Что же нам делать?
– Надо, по крайней мере, стараться делать вид, что у каждой из нас в личной жизни все хорошо, и что вот-вот мы поочередно, а если повезет, возможно, и одновременно, выскочим замуж.
– Бедный папа, – промокнув платком влажное лицо, прошептала Клара, – пожалуй, ты права, Гретхен, – будем пытаться делать вид… Я поговорю с Фелицией.
– Не надо, я сама с ней поговорю.
* * *
Зигфрид Шауфенбах опустил помазок в ванночку с теплой водой, после чего нанес на него изрядное количество пены и тщательно намылил ею подернутые седоватой щетиной щеки и подбородок своего клиента. Хельмут Рутке, живший в пяти минутах ходьбы от парикмахерской Шауфенбаха, имел обыкновение по субботам заходить к пятидесятилетнему добряку Зигфриду не только для того, чтобы побриться, но и обсудить произошедшие в городке за неделю события. Хельмуту Рутке нравился мелодичный голос парикмахера и его незатейливые шутки, иногда отпускаемые жизнерадостным Шауфенбахом вместо сдачи.
– Как поживают ваши очаровательные дочери? – разглядывая в зеркало подуставшее за неделю лицо парикмахера, поинтересовался вежливый Рутке.
– Спасибо, Хельмут, нормально. Спросите лучше, как поживает их непревзойденный отец!