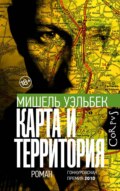Мишель Уэльбек
Реплики 2020. Статьи, эссе, интервью
Краткая история информатизации
Под конец Второй мировой войны, в связи с отработкой траекторий полетов для ракет среднего и дальнего радиуса действия, а также с созданием моделей расщепления атомного ядра, возникла потребность в средствах расчета больших чисел и алгоритмов повышенной точности. И вот, отчасти благодаря теоретическим трудам Джона фон Неймана, на свет появились первые компьютеры.
В то время стандартизация и рационализация труда уже прочно закрепились в промышленности, но еще не успели добраться до офисов и контор. Когда же были установлены первые компьютеры для обработки документов, всякой свободе и гибкости в управленческой деятельности пришел конец; для класса служащих это обернулось внезапной и жестокой пролетаризацией.
В те же годы европейская литература со смешным опозданием столкнулась с новым орудием труда – пишущей машинкой.
Исчезла неопределенная, многообразная работа над рукописью (вставки, отсылки, пометки на полях), и возникло линейное, одномерное письмо, фактически подстраивавшееся под нормы американского детектива и газетного стиля (рождение мифа об “ундервуде” – успех Хемингуэя). Образ литературы потускнел, и многие молодые люди с “креативным” складом ума избрали для себя более благодарный вид деятельности – кино или сочинение песен (однако оба эти пути, как оказалось, вели в тупик; вскоре американская индустрия развлечений начала свою разрушительную работу в местных индустриях развлечений – работу, завершение которой мы видим сегодня).
Внезапное появление в начале 80‐х годов персонального компьютера может показаться исторической случайностью; поскольку в нем не было никакой экономической необходимости, его можно объяснить разве что успехами микроэлектроники. У клерков и управленцев среднего звена неожиданно появилось мощное и простое в обращении устройство, которое помогло им снова – пусть не формально, но на деле – взять основной объем работы под свой контроль. Несколько лет шла подспудная необъявленная война между руководителями фирм и “базовыми” пользователями, за которыми иногда стояли группы программистов – убежденных сторонников персонального компьютера. Самое удивительное, что руководство постепенно осознало слабую эффективность и дороговизну больших машин, поняло, что массовое производство персональных компьютеров наполнит офисы надежной и дешевой оргтехникой, и сделало выбор в пользу ПК.
Писателю персональный компьютер принес нежданную свободу: конечно, он не обеспечивал той податливости и приятности, как рукопись, но все‐таки позволял серьезно работать над текстом. В те же годы по некоторым признакам можно было сделать вывод, что у литературы появился шанс отчасти вернуть себе былой авторитет, но не столько благодаря собственным достоинствам, сколько из‐за угасания соперничающих видов деятельности.
Под мощным обезличивающим воздействием телевидения рок-музыка и кинематограф постепенно утратили свою магию. Прежние различия между фильмами, клипами, новостями, рекламой, актуальными интервью и репортажами стали постепенно стираться, и появился новый универсальный жанр зрелища.
В начале 90‐х появление оптоволоконной связи и новые промышленные стандарты в информатике сделали возможным создание компьютерных сетей сначала внутри фирм, потом между фирмами. Превратившись в простую рабочую единицу в системе надежной связи между клиентами и сервером, персональный компьютер утратил всякую способность автономной обработки данных. Фактически она вновь оказалась подчинена централизованной системе – более мобильной, широкоохватной и эффективной.
Хотя персональные компьютеры повсеместно утвердились на предприятиях, мало кто желал установить их дома по причинам, которые впоследствии были выявлены и изучены (высокая цена, отсутствие реальной пользы, затрудненность работы в лежачем положении). В конце 90‐х годов появились первые пассивные терминалы для выхода в интернет. Не имевшие ни процессора, ни памяти, а потому стоившие очень дешево, они были предназначены для доступа к гигантским базам данных, созданным американской индустрией развлечений. Снабженные электронной системой оплаты, на сей раз вполне надежной и безопасной (по крайней мере, официально), красивые и компактные, они быстро стали неотъемлемой частью каждого дома, заменив одновременно мобильный телефон, Минитель[6] и пульт управления телевизором.
Вопреки ожиданиям, книга стала очагом активного сопротивления. Литературные произведения пытались публиковать на интернет-серверах, но интерес вызвали только энциклопедии и справочная литература. Через несколько лет пришлось признать: публика по‐прежнему отдает предпочтение печатной книге как более практичной, более привлекательной внешне и более удобной в обращении. Но каждая купленная книга становилась опасным разрывом в цепи. Когда‐то в таинственных лабиринтах нашего мозга литература нередко брала верх над самой реальностью, так что виртуальные миры ей ничем не угрожали. Начался необычный, парадоксальный период, который длится по сей день: параллельно с глобализацией в сферах развлечений и деловых обменов – сферах, где язык занимает весьма ограниченное место, – усиливается роль местных языков и национальных культур.
Признаки усталости
В политическом плане противодействие либерально-экономической глобализации началось уже довольно давно – с референдума по поводу присоединения к Маастрихтским соглашениям, который проходил во Франции в 1992 году.
Развернулась целая кампания, чтобы побудить французов сказать “нет” не столько во имя национальной гордости или республиканского патриотизма – и то и другое исчезло в Верденской мясорубке 1916–1917 годов, – сколько из‐за всеобщей глубокой усталости, просто из чувства отторжения. Как и все радикальные течения в истории, либерализм играл на запугивании, объявляя себя неизбежным будущим человечества. Как и все радикальные течения в истории, либерализм предполагал ослабление и преодоление простого нравственного чувства во имя светлого будущего человечества, виднеющегося где‐то вдали. Как и все радикальные течения в истории, либерализм обещал современникам труды и страдания, а наступление всеобщего счастья отодвигал на два-три поколения вперед. Подобные теории уже причинили достаточно вреда на протяжении всего двадцатого века.
К несчастью, частое извращение понятия “прогресс” разного рода историцизмами не могло не способствовать появлению шутовских идей, типичных для эпохи растерянности. Часто опирающиеся на Гераклита или Ницше, удобные и понятные для людей со средними и высокими доходами, иногда эстетически привлекательные, идеи эти, как кажется, подтверждались усилением националистических и социальных рефлексов – многоликих, непредсказуемых и необузданных – в менее благополучных слоях общества. Действительно, под влиянием бурно развивающейся математической теории турбулентности историю человечества ныне все чаще представляют в виде хаотичной системы, в которой изобретательные футурологи и философы-публицисты различали один или несколько центров притяжения – так называемых странных аттракторов. Не имея никакой методологической базы, эта аналогия все же завоевала популярность в образованных или полуобразованных слоях населения и превратилась в препятствие на пути создания новой онтологии.
Мир как супермаркет и насмешка
Артур Шопенгауэр не верил в Историю. Поэтому он умер в уверенности, что его открытие – концепция мира, существующего, с одной стороны, как воля (как желание, как жизненный порыв), а с другой – воспринимаемого как представление (само по себе нейтральное, чистое, сугубо объективное, а потому поддающееся эстетическому воспроизведению), – что это его открытие переживет века. Сегодня мы можем сказать, что он не совсем прав. Введенные им категории еще можно распознать в сложной канве наших жизней, но они претерпели такие метаморфозы, что можно задаться вопросом, насколько они еще значимы.
Слово “воля” означает долговременное напряжение, постоянное, неуклонное усилие, сознательно или бессознательно направленное на достижение определенной цели. Конечно, птицы все еще вьют гнезда, олени еще сражаются за самок. В шопенгауэровском смысле можно сказать, что один и тот же олень сражается, одна и та же личинка зарывается в землю с того нелегкого дня, когда они впервые появились на Земле. Однако у людей все совсем иначе. Логика супермаркета неизбежно вызывает распыление желаний; человек супермаркета органически не может быть человеком единой воли, единого желания. Отсюда известная вялость воли у современного человека. Не то чтобы люди стали желать меньше, наоборот, они желают все больше и больше, но в их желаниях появилось нечто крикливое и визгливое: это не чистые симулякры, но они по большей части обусловлены извне – скажем так, обусловлены рекламой в широком смысле слова. Ничто в них не напоминает ту стихийную, несокрушимую силу, упорно стремящуюся к осуществлению желаемого, которую подразумевает слово “воля”. Отсюда некоторый недостаток индивидуальности, заметный у каждого.
Что до представления, то оно глубоко отравлено смыслом и полностью утратило чистоту. Можно считать чистым лишь то представление, которое полагает себя только как таковое, которое стремится быть просто отображением внешнего мира (реального или воображаемого, но внешнего), иными словами, не включает собственный критический комментарий. Массовое внедрение в представление аллюзий, насмешки, юмора, вообще второй степени, очень скоро подорвало искусство и философию, превратив их в обобщенную риторику. Любое искусство, как и любая наука, – это способ коммуникации людей. Очевидно, что эффективность и интенсивность коммуникации снижаются и могут сойти на нет, как только возникает сомнение в истинности слов, в искренности выражения (можно ли, к примеру, вообразить науку второй степени?). Тенденция к творческому оскудению в искусстве, таким образом, не что иное, как оборотная сторона характерной для нашего времени невозможности разговора. Ведь сейчас в обычном разговоре все происходит так, словно прямое выражение какого‐либо чувства, эмоции или мысли стало невозможным, ибо оно слишком банально. Все нужно пропустить через искажающий фильтр юмора – юмора, который, естественно, в конечном счете работает вхолостую, оборачиваясь трагической немотой. Отсюда и пресловутая “некоммуникабельность” (надо отметить, что широкая эксплуатация этой темы нисколько не помешала некоммуникабельности распространиться на практике и оставаться актуальной как никогда, хотя людям порядком надоело рассуждать о ней), и столь же трагическая история живописи в XX веке. Эволюция живописи в наше время стала отображением эволюции человеческой коммуникации; правда, тут можно говорить не о прямом подобии, а скорее о некоем сходстве атмосферы. В обоих случаях мы оказываемся в болезненной, насквозь фальшивой атмосфере, где все смехотворно и где самая смехотворность перерастает в трагедию. Поэтому среднестатистическому прохожему, оказавшемуся в картинной галерее, не стоит оставаться там слишком долго, если он хочет сохранить ироническую отстраненность. Через несколько минут он помимо своей воли испытает легкую растерянность или, во всяком случае, некое оцепенение, некое неудобство, тревожное замедление юмористической функции.
(Трагизм возникает ровно в тот момент, когда объект осмеяния больше не воспринимается как fun[7]. Происходит нечто вроде резкой психологической инверсии, которая означает появление у человека неодолимого стремления к вечности. Рекламе удается избежать этого нежелательного для нее эффекта только с помощью непрестанного обновления своих симулякров, но живопись по‐прежнему стремится следовать своему предназначению – создавать долговременные объекты, наделенные своеобразием. Именно эта ностальгия по бытию и придает ей горестный ореол и в итоге волей-неволей делает ее верным отражением той духовной ситуации, в какой пребывает западный человек.)
Стоит отметить, что литература в тот же период находится в относительно добром здравии. Это легко поддается объяснению. Литература по сути своей – искусство концептуальное; собственно говоря, это единственный концептуальный вид искусства. Слова – это концепты, штампы – это тоже концепты. Нельзя ни утверждать, ни отрицать, ни подвергать сомнению, ни высмеивать что бы то ни было без помощи концептов и без помощи слов. Отсюда и удивительная живучесть литературной деятельности: она может самоопровергаться, саморазрушаться, объявлять себя невозможной, не переставая при этом быть самой собой; она выдержит любые рекурсивные приемы, любую деконструкцию, любую степень, какими бы изощренными они ни были; упав, она снова встанет на лапы и отряхнется, точно собака, вылезшая из пруда.
В противоположность музыке, в противоположность живописи и кино литература способна проглотить и переварить насмешку и юмор в неограниченном количестве. Опасности, подстерегающие ее сегодня, не имеют ничего общего с теми опасностями, которые подстерегали, а порой и разрушали другие искусства. Опасности эти связаны преимущественно с ускорением ритма восприятий и ощущений, присущих логике гипермаркета. В самом деле, ведь книгу можно оценить только постепенно, она требует обдумывания (не столько в смысле интеллектуального усилия, сколько в смысле возвращения вспять). Не бывает чтения без остановки, без попятного движения, без перечитывания, – а это вещь невозможная, даже абсурдная в мире, где все изменчиво, все текуче, ничто не имеет устойчивой ценности – ни правила, ни вещи, ни живые существа. Изо всех сил (а силы у нее когда‐то были могучие) литература сопротивляется понятию непрерывной актуальности, вечно длящегося настоящего.
Книги ждут читателей, но у этих читателей должно быть свое, индивидуальное и стабильное существование: они не могут быть чистыми потребителями, чистыми фантомами; в каком‐то смысле они должны быть субъектами.
Измученные трусливой манией политкорректности, замороченные потоком псевдоинформации, создающей у них иллюзию постоянного изменения категорий бытия (якобы мы уже не можем мыслить так, как мыслили десять, сто, тысячу лет назад), современные западные люди больше не способны быть читателями, они уже не могут удовлетворить смиренную просьбу раскрытой перед ними книги: быть просто человеческими существами, мыслящими и чувствующими самостоятельно.
Тем более они не могут играть эту роль перед другим человеком. А следовало бы, ибо этот распад личности – распад трагический. Каждый, испытывая мучительную ностальгию, требует от другого того, чем сам он быть уже не может; точно бесплотный, безглазый призрак, он ищет полноту бытия, которой не находит в себе самом. Ищет прочность, долговечность, глубину. Ищет, но, разумеется, не находит, и его одиночество нестерпимо.
Смерть Бога на Западе стала прелюдией к грандиозному метафизическому сериалу, который продолжается и в наши дни. Всякий специалист по исторической психологии сможет подробно воссоздать различные этапы этого процесса. Коротко говоря, христианство мастерски умудрялось сочетать в душе человека исступленную веру – по сравнению с Посланиями апостола Павла вся культура античности кажется нам сегодня до странности благоприличной и тусклой – с упованием на вечную сопричастность Высшему, абсолютному бытию. После того как эта мечта угасла, были сделаны многочисленные попытки дать человеку надежду на какой‐то минимум бытия, примирить мечту о бытии, которая жила в его душе, с назойливым, повсеместным присутствием изменения и становления. Но до сих пор все эти попытки оказывались безуспешными, и беда продолжала распространяться.
Последняя по времени из таких попыток – реклама. Хоть она и ставит себе целью возбудить, разжечь желание, сама быть желанием, все ее методы, по сути, весьма близки к тем, которые были характерны для морали прошлого. Ибо она вырабатывает некое устрашающее, жестокое Сверх-я, куда более беспощадное, чем все когда‐либо существовавшие императивы; оно прилипает к человеку и непрестанно твердит ему: “Ты должен желать. Ты должен быть желанным. Ты должен участвовать в общей гонке, в борьбе за успех в жизни окружающего мира. Если ты остановишься – ты перестанешь существовать. Если отстанешь – ты погиб”. Начисто отрицая понятие вечности, определяя самое себя как процесс непрестанного обновления, реклама стремится к распылению субъекта, к превращению его в послушный призрак бесконечного становления. И это поверхностное, на уровне оболочки, участие в жизни мира призвано заменить в человеке жажду бытия.
Реклама не справляется со своей задачей, люди все чаще впадают в депрессию, общая растерянность чувствуется все сильнее; но реклама продолжает создавать инфраструктуры для рецепции своих сообщений. Она продолжает совершенствовать средства передвижения для людей, которым некуда податься, потому что они нигде не чувствуют себя дома; развивать средства коммуникации для тех, кому больше нечего сказать; облегчать возможности контакта между теми, кому больше не хочется общаться.
Поэзия остановленного движения
В мае шестьдесят восьмого года мне было десять лет.
Я играл в шарики и читал комикс про собачку Пифа – хорошая была жизнь. О “событиях шестьдесят восьмого года” у меня осталось единственное, но яркое воспоминание. Мой кузен Жан-Пьер учился тогда в выпускном классе лицея в Ренси. В то время мне казалось (и последующий опыт оправдал это предчувствие, добавив еще и тягостные сексуальные впечатления), что лицей – это такое огромное жуткое место, где большие мальчики изо всех сил зубрят разные трудные предметы, чтобы обеспечить себе профессиональную карьеру в будущем. Как‐то в пятницу, во второй половине дня, мы с тетей зашли за кузеном в лицей, не помню уж почему. В этот самый день в лицее Ренси началась бессрочная забастовка. Двор, который, по моим ожиданиям, должны были заполнить сотни деловитых подростков, оказался пуст. Какие‐то учителя, не зная, чем заняться, слонялись между гандбольными воротами. Помню, я несколько долгих минут гулял по этому двору, пока тетя пыталась хоть что‐нибудь выяснить. Там царил полный покой, абсолютная тишина. Это было восхитительно.
В декабре восемьдесят шестого года я стоял на вокзале в Авиньоне. Было тепло.
Из-за сложностей в личной жизни, рассказывать о которых слишком скучно, мне было совершенно необходимо – во всяком случае, я так думал – сесть на скоростной поезд в Париж. Я не знал, что на всех железных дорогах страны началась забастовка. Так что вся предопределенная последовательность событий – сексуальный контакт, приключение, усталость – вдруг разом распалась. Два часа я просидел на скамейке, глядя на пустынное полотно железной дороги. Вагоны скоростного поезда стояли на запасных путях. Казалось, что они стоят там уже много лет, что они никогда и не катились по рельсам. Просто стояли себе неподвижно – и все. Пассажиры вполголоса обменивались новостями; царила атмосфера смирения и неуверенности. Это могла бы быть война или конец западного мира.
Некоторые люди, ставшие непосредственными свидетелями “событий шестьдесят восьмого года”, впоследствии рассказывали мне, что это было замечательное время, когда незнакомцы заговаривали друг с другом на улицах, когда все казалось возможным, – и я им охотно верю. Другие вспоминают только, что не ходили поезда и нельзя было достать бензин, – я готов признать, что они правы. Я нахожу во всех этих свидетельствах нечто общее: гигантская машина подавления каким‐то чудом застопорилась на несколько дней. Появилась некая зыбкость, неясность.
Все замерло в подвешенном состоянии, и по стране разлилось умиротворение. Потом, разумеется, общественная машина завертелась опять, еще быстрее, еще беспощаднее (май шестьдесят восьмого помог лишь разрушить некоторые моральные устои, умерявшие ее прожорливость). И все же был какой‐то момент остановки, нерешительности, момент метафизической неясности.
Вероятно, по этим же причинам, когда проходит первый прилив раздражения, реакцию публики на внезапный сбой в информационных сетях нельзя расценить как однозначно негативную. Это явление можно наблюдать всякий раз, когда выходит из строя электронная система предварительной продажи билетов (дело вполне обычное). Когда люди смиряются с возникшим осложнением, а тем более когда в кассах начинают заказывать билеты по телефону, у пользователей возникает скорее даже какое‐то тайное чувство удовлетворения, словно судьба дает им возможность подспудно взять реванш у техники. Точно так же, если есть желание узнать, что в глубине души думают люди об архитектуре, среди которой им приходится жить, достаточно понаблюдать за их реакцией, когда объявляют о сносе одного из унылых, безликих жилых кварталов, построенных в шестидесятые годы на окраинах, – это искренняя, бурная радость, что‐то похожее на опьянение нежданной свободой. В таких местах обитает злой дух, враждебный человеку, дух жестокой, изматывающей машины, с каждым днем ускоряющей ход. Люди это чуют и хотят, чтобы его изгнали.
Литература уживается со всем, приспосабливается ко всему, она роется в отбросах, зализывает раны, нанесенные несчастьем. Среди гипермаркетов и офисных башен родилась парадоксальная поэзия – поэзия тоски и угнетенности. Это невеселая поэзия, да ей и не с чего быть веселой. Современная поэзия призвана созидать гипотетический “дом Бытия” не более, чем современная архитектура – созидать обитаемые пространства; это была бы задача, сильно отличающаяся от задачи создавать все новые инфраструктуры для передачи и обработки информации.
Информация, этот остаточный продукт быстротечного времени, противостоит значению, как плазма противостоит кристаллу. Общество, достигшее точки перегрева, не обязательно взрывается, но теряет способность создавать значение, вся его энергия уходит на информативное описание собственных случайных вариаций. И все же каждому человеку по силам совершить в себе самом тихую революцию, выключившись на миг из информационно-рекламного потока. Это очень легко. Сегодня даже легче, чем когда‐либо, занять эстетическую позицию по отношению к миру – достаточно лишь сделать шаг в сторону. Хотя в конечном счете не надо даже шага. Достаточно выдержать паузу, выключить радио, выключить телевизор, ничего больше не покупать, не хотеть больше ничего покупать. Больше не участвовать, больше не знать, временно приостановить всякий прием информации.
Достаточно в буквальном смысле замереть в неподвижности на несколько секунд.