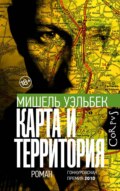Мишель Уэльбек
Реплики 2020. Статьи, эссе, интервью
Утраченный взгляд[8]
Похвала немому кино
Человеку свойственно говорить, но иногда он не говорит. Когда ему угрожают, он напружинивается, быстро обшаривает взглядом пространство; когда он в отчаянии, то съеживается, свертывается клубком вокруг своего горя. Когда он счастлив, его дыхание замедляется, ритм его существования становится более свободным. Были в мировой истории два искусства – живопись и ваяние, которые пытались синтезировать человеческий опыт с помощью застывших изображений, остановленного движения. Порой они считали нужным остановить движение в такой момент, когда оно достигало точки равновесия, наибольшей плавности (точки, где оно смыкается с вечностью), – это все изображения Богоматери с младенцем. Порой же останавливали движение в момент его величайшей напряженности, наивысшей выразительности – это, естественно, искусство барокко; но есть еще и многочисленные картины Каспара Давида Фридриха, напоминающие замерзший взрыв. Эти искусства развивались в течение тысячелетий; у них была возможность создавать законченные произведения, законченные в смысле их самой заветной цели – остановить время.
Было в мировой истории человечества и такое искусство, предметом которого было изучение движения. Это искусство могло развиваться всего три десятилетия. Между 1925 и 1930 годами это искусство создало несколько кадров в нескольких фильмах (я имею в виду прежде всего Мурнау, Эйзенштейна, Дрейера), оправдывавших его существование как искусства; затем оно исчезло, по‐видимому навсегда.
Галки подают голосовые сигналы, предупреждающие об опасности и позволяющие им узнавать друг друга. Таких сигналов ученые насчитали около шестидесяти. Но галки – это исключение; по большей части мир живет и действует в устрашающем молчании; он выражает свою сущность в форме и движении. Ветер колышет травы (Эйзенштейн); слеза стекает по лицу (Дрейер). Перед немым кино открывались необъятные перспективы: оно не было лишь исследованием человеческих чувств; не было лишь исследованием движения в мире; его глубинной целью было исследование условий восприятия. В основе наших представлений лежит различение фигуры и фона; но есть и более тайный процесс – в различии фигуры и движения, формы и процесса ее зарождения наш разум ищет свой путь в мире – отсюда то почти гипнотическое ощущение, что охватывает нас при виде неподвижной формы, рожденной непрестанным движением, как, например, застывшие волны на поверхности болота.
Что осталось от этого после 1930 года? Кое-какие следы, особенно в творчестве режиссеров, начинавших работать в эпоху немого кино (смерть Куросавы будет чем‐то большим, чем смерть отдельного человека); несколько мгновений в экспериментальных фильмах, в научной документалистике и даже в сериалах (один из примеров – фильм “Австралия”, вышедший несколько лет назад). Эти мгновения нетрудно распознать: самое присутствие слова в них невозможно, даже музыка в них производит впечатление китча, кажется тяжеловесной, почти вульгарной. Мы превращаемся в чистое восприятие; мир предстает нам в своей имманентности. И мы бесконечно счастливы каким‐то странным счастьем. Такое же состояние бывает, если влюбиться.
Беседа с Жан-Ивом Жуанне и Кристофом Дюшатле[9]
– Что превращает твои произведения – от эссе о Лавкрафте до романа “Расширение пространства борьбы”, включая “Оставаться живым” и сборник стихов “Погоня за счастьем”, – в единое целое? В чем их общность или направляющая, сквозная линия этого целого?
– Думаю, прежде всего ощущение, что мир основан на разобщенности, страдании и зле, и еще решимость описать такое положение вещей и, возможно, преодолеть его. Какими средствами – литературными или нет, – вопрос второстепенный. Первое, что нужно сделать, – это решительно отвергнуть мир как он есть, а также признать существование понятий “добро” и “зло”, захотеть вникнуть в эти понятия, определить границы их действия, в том числе и внутри собственного “я”. Вслед за этим должна последовать литература. Стиль может быть самым разным – это вопрос внутреннего ритма, самоощущения.
Я не слишком забочусь о связности и цельности;
мне кажется, это придет само собой.
– “Расширение пространства борьбы” – твой первый роман. Что побудило тебя после поэтического сборника обратиться к прозе?
– Мне бы хотелось, чтобы между тем и другим не было никакой разницы. Сборник стихов должен быть таким, чтобы его можно было прочесть залпом от начала до конца. А роман – таким, чтобы его можно было открыть на любой странице и читать вне всякого контекста. Контекста не существует. К роману лучше относиться недоверчиво, не стоит попадаться в ловушку сюжета, или интонации, или стиля. Точно так же в жизни не стоит попадаться в ловушку собственной биографии или в еще более коварную ловушку личности, которую воображаешь своей. Стоило бы добиться определенной поэтической свободы: в идеальном романе должно найтись место для стихотворных и песенных фрагментов.
– А может быть, и для научных диаграмм?
– Да, это было бы замечательно. В роман должно было бы входить вообще все. Новалис да и все немецкие романтики хотели достичь абсолютного знания. Отказ от этого стремления был ошибкой. Мы мечемся, как прихлопнутые мухи, и тем не менее в нас заложена потребность в абсолютном знании.
– Все, что ты написал, проникнуто откровенным и ужасающим пессимизмом. Можешь ли ты привести два-три довода, которые, по твоему мнению, позволяют отвергнуть самоубийство?
– В 1783 году Кант безоговорочно осудил самоубийство в «Учении о добродетели». Цитирую: “Уничтожать в своем лице субъект нравственности – это то же, что искоренять в этом мире нравственность в самом ее существовании”[10]. Такой довод кажется наивным и почти трогательным в своей невинности, как это часто бывает у Канта, и все же я думаю, что другого не существует. Ничто не может удержать нас в этой жизни, кроме чувства долга. Конкретно говоря, если хочешь обзавестись этим чувством на практике, сделай так, чтобы чье‐то счастье зависело от твоего существования: можешь взять на воспитание ребенка или, на худой конец, купить пуделя.
– Не мог бы ты разъяснить нам ту социологическую теорию, что, помимо борьбы за социальное преуспеяние, присущей капитализму, в мире происходит и другая, более коварная и жестокая борьба – борьба полов?
– Это очень просто. У животных и в человеческих сообществах есть разные системы иерархии, в основе которых может лежать происхождение (аристократическая система) или же богатство, красота, физическая сила, ум, талант…
Но все эти системы кажутся мне равно ничтожными, и я их отвергаю. Я признаю единственное превосходство – доброту. В наши дни мы живем и действуем внутри системы, имеющей два измерения: эротическую привлекательность и деньги.
Из этого проистекает все остальное – счастье и несчастье. По-моему, это даже не теория; мы живем в очень простом обществе, и нескольких фраз вполне достаточно, чтобы дать о нем полное представление.
– Одна из самых жестоких сцен твоего романа разворачивается в ночном клубе на побережье Вандеи. Тут и неудачные попытки обольщения, “обломы”, вызывающие обиду и горечь, и просто сексуальные игры. Но в твоих книгах ночной клуб приравнивается к супермаркету. Почему? Потому что и тут и там потребляют одинаково?
– Нет. Можно было бы провести параллель между промоакцией на куриное мясо и мини-юбками: и тут и там – рекламный трюк, но на этом аналогия кончается. Супермаркет – это настоящий современный рай; у его врат борьба прекращается. Бедняки, например, сюда вообще не заходят. Люди где‐то заработали денег, а теперь хотят их потратить; здесь их ждет разнообразный, постоянно обновляемый ассортимент товаров; продукты нередко оказываются и в самом деле вкусными, а их питательная ценность всегда указана на упаковке. В ночных клубах мы видим совершенно иную картину. Много закомплексованных людей без всякой надежды продолжают посещать эти заведения. То есть возникает ситуация, при которой они постоянно, каждую минуту ощущают свое унижение, – это уже не рай, а скорее ад. Есть, правда, и супермаркеты, торгующие сексом, они предлагают достаточно широкий перечень порнопродукции, но им не хватает главного. Ведь на самом деле высшая цель сексуальной охоты – не удовольствие, а нарциссическое вознаграждение: привлекательные партнеры отдают должное своим собственным эротическим достоинствам. Кстати, именно поэтому от появления СПИДа мало что изменилось. Презерватив притупляет удовольствие, но тут, в отличие от покупки продуктов, желанная цель – не удовольствие, а нарциссическое опьянение победой. Потребитель порнографической продукции не только не достигает этого опьянения, но зачастую испытывает прямо противоположное чувство. Для полноты картины можно еще добавить, что и для некоторых носителей альтернативных ценностей сексуальность по‐прежнему ассоциируется с любовью.
– Не мог бы ты рассказать об этом программисте, которого ты называешь “человек-сеть”? С чем этот тип персонажа соотносится в современной действительности?
– Надо отдавать себе отчет в том, что все рукотворные вещи – железобетон, электрические лампочки, поезда метро, носовые платки – сейчас разрабатываются и производятся немногочисленным классом инженеров и техников, способных придумать, а затем изготовить соответствующие механизмы; только они и являются реальными производителями. Они составляют, наверно, процентов пять от общей численности населения, и процент этот неуклонно снижается. Весь остальной персонал предприятия – сотрудники отдела сбыта и отдела рекламы, клерки, администрация, дизайнеры – приносят куда менее очевидную общественную пользу; если бы они вдруг исчезли, это практически не повлияло бы на производственный процесс. Их роль, по всей видимости, состоит в том, чтобы создавать и обрабатывать различные типы информации, то есть различные копии реальности, которая им недоступна.
Именно в таком контексте можно рассматривать сегодня стремительное распространение сетей по передаче информации. Горстка специалистов – максимум пять тысяч человек на всю Францию – должна разрабатывать протоколы и создавать аппаратуру, с помощью которых в ближайшие десятилетия можно будет мгновенно распространять по всему миру информацию любого типа: текстовую, звуковую, визуальную, а возможно, также тактильные и электрохимические раздражители. Некоторые из этих людей видят в своей деятельности позитивный смысл: по их мнению, человек, будучи центром производства и переработки информации, сможет полностью реализоваться лишь через взаимосвязь с возможно большим количеством аналогичных центров. Но большинство не ищет никаких смыслов, а просто делает свое дело. Таким образом, они в полной мере осуществляют технический идеал, который направлял историческое развитие западных обществ с конца Средних веков и который можно выразить одной фразой: “Если это технически осуществимо, значит, это будет технически осуществлено”.
– Твой роман читается как психологическая проза, но потом в глаза бросается его социологический характер. Быть может, эта книга преследует не столько литературные, сколько научные цели?
– Нет, это все‐таки слишком сильно сказано. Подростком я действительно был буквально заворожен наукой, особенно новыми категориями, выдвинутыми квантовой механикой, но по‐настоящему я об этом еще не писал; наверно, меня слишком занимали реальные условия выживания в этом мире. Однако я слегка удивляюсь, когда мне говорят, что у меня получаются выразительные психологические портреты людей, персонажей. Может, это и правда, но вместе с тем мне часто кажется, что все люди более или менее одинаковы, а того, что они называют своим “я”, на самом деле не существует; в известном смысле легче дать определение какому‐нибудь историческому течению, чем отдельной личности. Возможно, тут есть предпосылки нового принципа дополнительности в духе Нильса Бора: волны и частицы, положение в пространстве и скорость, личность и история. В литературном плане я остро ощущаю необходимость двух взаимодополняющих подходов: эмоционального и клинического. С одной стороны, препарирование, холодный анализ, юмор, с другой – эмоциональная, поэтическая сопричастность, непосредственное лирическое сопереживание.
– Ты – романист, но в тебе сказывается естественная склонность к поэзии.
– Поэзия для человека – самая естественная возможность выразить чисто интуитивное ощущение данного момента. Ведь в нас присутствует чисто интуитивное начало, которое может быть напрямую выражено в образах или словах. Пока мы остаемся в сфере поэзии, мы остаемся в сфере правды. Проблемы начинаются потом, когда приходится выстраивать эти фрагменты, создавать некую последовательность, осмысленную и музыкальную одновременно. Тут мне, наверно, очень пригодился опыт работы за монтажным столом.
– В самом деле, прежде чем стать писателем, ты снял несколько короткометражных фильмов. Кто из мастеров кино оказал на тебя наибольшее влияние? И как связаны кинообразы с твоим литературным творчеством?
– Я очень любил Мурнау и Дрейера; еще я любил все то, что назвали немецким экспрессионизмом, хотя эти фильмы в гораздо большей степени перекликаются с живописью романтизма, нежели экспрессионизма. Это был анализ гипнотической неподвижности, я пытался передать ее образами, а затем словами. Кроме того, у меня есть еще одно ощущение, очень глубокое, я бы назвал его океаническим чувством. Мне не удалось передать его в моих фильмах, да у меня, по сути, и не было случая это сделать. Возможно, иной раз мне удавалось выразить его словами, в некоторых стихотворениях. Но рано или поздно мне, безусловно, надо будет вернуться к зрительным образам.
– А не возникала ли у тебя идея экранизировать свой роман?
– Да, конечно. Ведь это, по сути, – сценарий, во многом напоминающий “Таксиста”, но визуальный ряд должен быть совсем другим. Ничего похожего на Нью-Йорк; всюду должно быть стекло и сталь, зеркальные поверхности. Офисные ландшафты, видеоэкраны, пространство нового города с налаженным и интенсивным уличным движением. С другой стороны, в моей книге сексуальная жизнь – это череда поражений. Главное – избегать всякого возвеличения эротики, показать истощение сил, мастурбацию, рвоту. Но все это – в прозрачном, красочном, веселом мире. Можно даже дать диаграммы и таблицы: процентное содержание половых гормонов в крови, зарплаты в тысячах франков… Не надо бояться теоретизирования, надо атаковать на всех фронтах. Передозировка теории придает неожиданную динамику.
– Ты часто пишешь, что твой пессимизм – это как бы один из этапов. А что за ним последует?
– Мне бы очень хотелось укрыться от назойливого присутствия современного мира, попасть в уютный мир в духе “Мэри Поппинс”, где все хорошо. Получится ли у меня – не знаю. Сказать, что ждет всех нас в будущем, тоже довольно трудно. Учитывая нынешнюю социально-экономическую систему, а главное, учитывая наши философские предпосылки, вполне очевидно, что человечество стремительно движется к скорой и жесточайшей катастрофе. Собственно, она уже началась. Логическое следствие индивидуализма – смертоубийство и горе. Любопытнее всего, что мы гибнем с большим энтузиазмом.
Поразительно, например, как весело и беспечно мы недавно отбросили психоанализ – который, правда, вполне того заслуживал – и заменили его упрощенной трактовкой человека, объясняющей все его проявления воздействием гормонов и нейромодуляторов. Постепенный распад на протяжении веков общественных и семейных структур, все усиливающаяся склонность людей воспринимать себя как изолированные частицы, подверженные закону атомных столкновений, как недолговечные скопления более мелких частиц… Все это, разумеется, исключает возможность какого бы то ни было политического решения, поэтому целесообразно будет вначале ликвидировать источники пустопорожнего оптимизма. Если же взглянуть на вещи более философски, станет понятно, что ситуация еще удивительнее, чем казалось раньше. Мы движемся к катастрофе, ведомые искаженным образом нашего мира, и никто об этом не знает. Похоже, и сами нейрохимики не отдают себе отчета в том, что их наука идет вперед по минному полю. Рано или поздно они доберутся до молекулярных основ сознания и тут лоб в лоб столкнутся с новым мышлением, рожденным квантовой физикой.
Нам неизбежно придется пересмотреть постулаты познания, да и самого понятия реальности; в эмоциональном плане это нужно было бы осознать уже сегодня.
Так или иначе, если мы не откажемся от механистичного и индивидуалистского видения мира, то мы погибнем. Мне не кажется разумным и дальше пребывать в страдании и зле. Идея “Я” направляет нас уже пять столетий; пора свернуть с этого пути.
Искусство как снятие кожуры[11]
Понедельник, школа искусств в городе Кане. Меня попросили объяснить, почему я ставлю доброту выше, чем ум или талант. Я, как мог, объяснил, хоть и с трудом, но знаю, что объяснил правильно. Затем я посетил мастерскую художницы Рашель Пуаньян: она использует в композициях муляжи разных частей своего тела. Я впал в ступор перед узкими полосами ткани, на которых во всю длину были наклеены муляжи одного из ее сосков (правого или левого, не помню). По резинообразной консистенции и по виду это точь‐в-точь напоминало щупальца спрута. Тем не менее спал я ночью довольно крепко.
Вторник, школа искусств в Авиньоне, “День неудач”, организованный Арно Лабель-Рожу. Я должен говорить о неудачах в сексе. Началось все почти весело, с показа короткометражек под общим названием “Фильмы без свойств”. Одни ленты были забавные, другие – странные, а иногда и то и другое (надеюсь, эту кассету крутят в разных центрах искусств – не пропустите). Затем я посмотрел видео Жака Лизена. Он одержим своим сексуальным ничтожеством. Его член выглядывал из дырочки, проделанной в листе фанеры, на него была надета скользящая веревочная петля. Время от времени он дергал за веревочку, рывками, как тормошат вялую марионетку. Мне было очень не по себе. В этой атмосфере распада и балагана, окружающей современное искусство, в конце концов начинаешь задыхаться; жаль, что нет больше Йозефа Бойса[12] с его щедростью и благородством. И тем не менее это мучительно точное свидетельство о нашей эпохе. Я думал об этом весь вечер и раз за разом приходил к одному и тому же выводу: мне претит современное искусство, но я сознаю, что оно – лучший из возможных комментариев к нынешнему положению вещей. Мне чудились мусорные мешки, из которых сыплются кофейные фильтры, какие‐то очистки, куски мяса в застывшем соусе. Я думал об искусстве как о снятии кожуры, о клочьях мякоти, приставших к очисткам.
Суббота, литературный симпозиум на севере Вандеи. Сидят несколько “региональных писателей правого направления”. (Их правое направление выражается в том, что, говоря о своих корнях, они не упускают случая упомянуть прадедушку-еврея; тем самым каждый может убедиться в широте их взглядов.) В остальном публика весьма пестрая, как и везде: общий у них только круг чтения. Все эти люди живут в краю, где существует бесконечное количество оттенков зеленого цвета, но под вечно пасмурным небом все оттенки меркнут. Так что приходится иметь дело с померкшей бесконечностью. Я подумал о круговращении планет после того, как исчезнет всякая жизнь, в остывающей Вселенной, где звезды гаснут одна за другой, и чуть не заплакал от чьих‐то слов о “человеческом тепле”.
В воскресенье я сел на скоростной поезд в Париж; отпуск кончился.
Абсурд как креативный фактор[13]
“Структура поэтического языка” удовлетворяет критериям серьезности, принятым в университетской науке, – это не обязательно критическое замечание. Жан Коэн приходит к выводу, что по сравнению с обычным, прозаическим языком, служащим для передачи информации, язык поэзии позволяет себе значительные отклонения. Этот язык постоянно использует неуместные эпитеты (“белые сумерки” у Малларме;
“черные ароматы” у Рембо). Он не пренебрегает очевидным (“Не раздирайте его двумя вашими белыми руками” у Верлена; прозаический ум усмехается: у нее что, есть еще и третья?) и не боится известной непоследовательности (“Руфь грезила, Вооз спал, трава была черна” у Гюго; “два утверждения стоят рядом, но логическая связь между ними не просматривается”, подчеркивает Коэн). Он упивается избыточностью, которая в прозе именуется повтором и сурово преследуется; предельным случаем здесь будет поэма Федерико Гарсиа Лорки “Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу”, где в первых пятидесяти двух строках слова “пять часов пополудни” повторяются тридцать раз.
Для подтверждения своего тезиса автор проводит сравнительный статистический анализ поэтических и прозаических текстов (причем эталоном прозы – и это весьма показательно – служат для него тексты великих ученых конца XIX века: Пастера, Клода Бернара, Марселена Бертло). Тот же метод позволяет ему утверждать, что у романтиков поэтические отклонения гораздо сильнее, чем у классиков, а у символистов достигают еще большего размаха. Интуитивно мы и сами об этом подозревали, и все же приятно, когда это устанавливают с такой ясностью. Дочитав книгу, мы уверены в одном: автору действительно удалось выявить некоторые отклонения, характерные для поэзии; но к чему тяготеют эти отклонения? Какова их цель, если она у них есть?
После нескольких недель плавания Христофору Колумбу доложили, что половина провизии уже израсходована; ничто не указывало на близость земли. Именно с этого момента его приключение становится подвигом – с момента, когда он решает по‐прежнему двигаться на запад, зная, что отныне у него нет физической возможности вернуться. Жан Коэн раскрывает карты еще в предисловии – его взгляды на природу поэзии отличаются от всех существующих теорий. Поэзия, говорит он, создается не добавлением к прозе определенной музыкальности (как упорно считали в те времена, когда любая поэма непременно должна была быть в стихах) и тем более не добавлением к эксплицитному значению значения глубинного (как в марксистском, фрейдистском и прочих толкованиях). Дело даже не в умножении тайных значений, сокрытых под значением буквальным (теория полисемии).
В общем, поэзия – это не проза плюс что‐то еще; это не нечто большее, чем проза, а нечто иное. “Структура поэтического языка” завершается констатацией: поэзия отходит от повседневного языка, и чем дальше, тем больше. Напрашивается мысль, что цель поэзии – добиться максимального отклонения, разрушить, взорвать изнутри все существующие коммуникативные коды. Но Жан Коэн отвергает и эту теорию. Всякий язык, утверждает он, обладает интерсубъектной функцией, и язык поэзии – не исключение; поэзия говорит о мире по‐своему, но говорит именно о мире, каким его воспринимают люди. И вот тут он сильно рискует: ведь если стратегия отклонения для поэзии не самоцель, если поэзия действительно есть нечто большее, чем языковой эксперимент или языковая игра, если она действительно стремится найти новое, иное слово о той же реальности, тогда мы имеем дело с двумя разными и несводимыми друг к другу видениями мира.
Маркиза вышла в пять[14] семнадцать; она могла выйти в шесть тридцать две; она могла быть герцогиней и выйти в то же время. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Объем финансовых транзакций в 1995 году значительно вырос. Чтобы преодолеть земное притяжение, ракета при взлете должна развить тягу, прямо пропорциональную своей массе. Язык прозы приводит в систему различные рассуждения, доводы, факты; по сути, главным образом факты. События, произвольно выбранные, но описанные с большой точностью, пересекаются в нейтральном пространстве и нейтральном времени. Любой оценочный или эмоциональный аспект исчезает из нашего видения мира. Это идеальное воплощение мысли Демокрита: цвет, сладкое и горькое, горячее и холодное существуют лишь в общем мнении, в действительности же существуют лишь атомы и пустота. Красота этого изречения бесспорна, но ограниченна и помимо воли вызывает в памяти пресловутый стиль “Минюи”[15], влияние которого мы ощущаем уже лет сорок – именно потому, что оно отвечает демокритовой метафизике, и по сию пору широко распространенной среди нас; распространенной настолько, что ее иногда смешивают с философией науки вообще, хотя наука заключила с ней лишь временный союз – пусть и просуществовавший много столетий – для совместной борьбы против религиозной мысли.
“Когда свинцовый свод давящим гнетом склепа на землю нагнетет…”[16] Этот стих, ужасающе перегруженный, как и многие стихи Бодлера, имеет целью отнюдь не передачу информации. Не только небесный свод, но и весь мир, все существо говорящего и вся душа слушателя проникнуты чувством тоски и подавленности. Возникает поэзия; патетическое значение обнимает собой весь мир.
Согласно Жану Коэну, поэзия стремится создать глубоко алогичный дискурс, в котором заблокирована всякая возможность отрицания. В информирующем языке то, что есть, могло бы и не быть или быть как‐то иначе, в другом месте либо в другое время. Напротив, поэтические отклонения призваны создать “эффект безграничности”, когда пространство утверждения охватывает весь мир, не оставляя места для опровержения. В этом поэзия сближается с более примитивными человеческими проявлениями, такими как стон или вопль. Правда, ее диапазон значительно шире, но слова, в сущности, имеют ту же природу, что и крик. В поэзии они начинают вибрировать, они обретают свое исконное звучание – но звучание не только музыкальное. Посредством слов обозначаемая ими реальность вновь обретает способность ужасать и очаровывать, обретает изначальный пафос. Небесная лазурь – это непосредственное переживание. Точно так же в сумерках, когда цвета и контуры предметов стираются, медленно тают в густеющей мгле, человеку кажется, что он один на свете. Так было с первых дней его жизни на земле, так было еще до того, как он стал человеком; это гораздо древнее, чем язык.
Поэзия пытается вернуть эти потрясающие ощущения; конечно, она использует язык, “означающее”, но язык для нее – лишь средство. Эту теорию Жан Коэн формулирует в одной фразе: “Поэзия – это песнь означаемого”.
Тем самым становится понятна еще одна его мысль: определенные способы восприятия мира поэтичны сами по себе. Все, что способствует стиранию граней, превращению мира в однородное, почти неразделимое целое, несет на себе печать поэзии (как, например, туман или сумерки). Некоторые предметы несут в себе поэтический импульс не в качестве предметов как таковых, но потому, что одним своим присутствием они разрушают границы пространства и времени, внушая особое психологическое состояние (надо признать, что рассуждения Коэна об океане, руинах, корабле производят впечатление). Поэзия – это не просто иной язык, это иной взгляд, это особое видение мира и всех вещей в этом мире (от автострад до змей, от паркингов до цветов). На этом этапе поэтика Жана Коэна уже выходит за пределы лингвистики и напрямую связана с философией.
Всякое восприятие строится на двух разграничениях: между объектом и субъектом, между объектом и миром. Четкость этих разграничений имеет глубокий философский смысл: все существующие философские школы можно без всяких натяжек разнести по двум соответствующим осям. Поэзия, полагает Жан Коэн, стирает вообще все точки отсчета: объект, субъект и мир сплавляются в единой патетической и лирической атмосфере. Метафизика Демокрита, наоборот, высвечивает оба разграничения с предельной яркостью (ослепительной, как солнечный свет на белых камнях в августовский полдень: “Существуют лишь атомы и пустота”).
В принципе, дело рассмотрено и приговор вынесен: поэзия объявлена эдаким симпатичным реликтом дологического сознания, сознания дикаря или ребенка. Проблема в том, что философия Демокрита неверна. Уточним: она несовместима с последними достижениями физики XX века.
Ведь квантовая механика исключает саму возможность материалистической философии и требует радикально пересмотреть разграничения между объектом, субъектом и миром.
Уже в 1927 году Нильс Бор пришел к тому, что впоследствии было названо копенгагенской интерпретацией. Выработанная в результате мучительного, а в чем‐то и трагического компромисса, копенгагенская интерпретация выдвигает на передний план измерительные приборы и протоколы измерения. В полном соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, она задает новые основы для акта познания: если нельзя одновременно с точностью измерить все параметры данной физической системы, то не просто потому, что они “искажаются в процессе измерения”; по сути, вне измерения они не существуют. Следовательно, говорить об их предшествующем состоянии не имеет никакого смысла. Копенгагенская интерпретация высвобождает акт научного познания, помещая на место гипотетического реального мира пару “наблюдатель – наблюдаемое”. Оно позволяет переосмыслить науку в целом как средство коммуникации между людьми, обмена “тем, что мы смогли наблюдать, тем, что мы узнали”, говоря словами Нильса Бора.
В общем и целом физики нашего столетия остались верны копенгагенской интерпретации, хотя это весьма усложняло им жизнь. Конечно, в повседневной исследовательской практике легче всего добиться успеха, придерживаясь строго позитивистского подхода, который можно сформулировать так: “Наше дело – собрать наблюдения, наблюдения, сделанные людьми, и связать их между собой определенными законами. Понятие реальности ненаучно, и оно нас не интересует”. И все же, наверное, иногда бывает неприятно сознавать, что разрабатываемую тобой теорию совершенно невозможно изложить внятным языком.
И тут намечаются странные сближения. Я уже давно с удивлением замечаю, что стоит физикам-теоретикам выйти за рамки спектральных разложений, гильбертовых пространств и эрмитовых операторов и прочих вещей, о которых они обычно пишут, как они в любом интервью начинают усиленно хвалить язык поэзии. Не детектив и не додекафонию, нет: их интересует, их волнует именно поэзия. Я никак не мог понять почему, пока не прочел Жана Коэна. Благодаря его поэтике я осознал, что с нами точно что‐то происходит и это что‐то так или иначе связано с идеями Нильса Бора.
Перед лицом концептуальной катастрофы, вызванной первыми открытиями квантовой физики, иногда звучало мнение, что пора создавать новый язык, новую логику, а может, и то и другое. Понятно, что прежний язык и прежняя логика не годились для отображения квантовой Вселенной. Бор, однако, высказывался более сдержанно. Поэзия, подчеркивал он, служит доказательством того, что искусное, а отчасти и неправильное, противоречивое использование обычного языка позволяет преодолеть его границы. Введенный Бором принцип дополнительности – это своего рода тонкая настройка противоречия: одновременно вводятся две взаимодополняющие точки зрения на мир; каждую из них в отдельности можно выразить вполне однозначно и ясным языком, но каждая из них в отдельности будет ложной. Их совместное присутствие создает новую, весьма неудобную для разума ситуацию; но лишь благодаря этому концептуальному неудобству мы можем получить корректное представление о мире. Со своей стороны, Жан Коэн утверждает, что абсурдное использование языка в поэзии для нее отнюдь не самоцель. Поэзия разрывает причинно-следственные связи, неустанно играет с взрывной силой абсурда, но сама она – не абсурд. Она – абсурд, превратившийся в креативный фактор; она творит некий новый смысл, странный, но непосредственный, безграничный, эмоциональный.