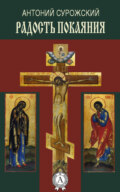митрополит Антоний Сурожский
Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смысла
Рекомендовано к публикации Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р19-903-0090
Текст подготовлен совместно с Фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»

© Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation, 2019
© ООО ТД «Никея», 2019
Предисловие
Дар удивления
Евгений Водолазкин
В этой книге помещены беседы владыки Антония Сурожского, переведенные с английского и еще не публиковавшиеся на русском языке. Беседы обращены к светской аудитории и относятся в основном к 1970-1980-м годам, времени, когда проповеднический дар этого человека достиг расцвета и мощи. Сказанное не подразумевает один лишь богатый опыт произнесения коротких текстов – владение голосом, мимикой, жестами (хотя почему бы и не это тоже?). Речь идет о внутреннем горении пастыря, без которого проповедь невозможна.
Владыка Антоний принадлежит к числу тех, кого не нужно представлять: о нем знают если не все, то очень многие. Его выступления и статьи не нуждаются в пояснении или комментировании: доходя до предельных глубин, они предельно просто изложены. Строго говоря, для комментария нужно иметь еще и право: вряд ли многие современники владыки признают его за собой. Слишком уж разные у нас с ним калибры. Лучшее, что, наверное, можно сделать, – это вспоминать о нем. Свидетельствовать по праву любви и благодарности.
Скажу о вещах для меня сугубо личных, но, мне кажется, хорошо отражающих исходившую от владыки Антония особую силу. Наша первая встреча связана с тем, что я с трепетом называю чудом. Прилетев в Лондон на какую-то конференцию, я пошел на воскресную службу в Успенский кафедральный собор. Попеременно звучали церковнославянский и английский, а сам собор прежде был англиканской церковью, построенной (сколько же тут всего соединилось!) в неороманском стиле. Православие здесь напоминало о вселенском своем характере и не желало иметь ничего общего с этнографическим музеем. Если бы идея музея реализовалась в этом отдельно взятом храме, то музей был бы английским: митрополит Антоний привел к православию многие сотни англичан. Я думал об этом, глядя на необычные – готические какие-то – лица прихожан. И это при том, что англичан не очень-то куда-то приведешь: редко они позволяют себя вести – такой народ.
Владыка попросил прощения, что во время богослужения сидит. Сказал: «Просто не могу стоять». После службы выслушал всех, кто хотел к нему обратиться. Когда подошла моя очередь, я рассказал ему о своей беде: моя дочь тогда серьезно болела. Владыка принес бумажную иконку Богородицы и велел отвезти ей. В Германии, где мы тогда жили, была назначена правильная терапия, и дело пошло на поправку.
Скептик вежливо спросит: нельзя ли считать, что результат был связан с качеством немецкой медицины? Конечно, можно. Сотворение чуда предполагает разнообразные пути и инструменты. Не сомневаюсь, однако, что в отсутствие немецкой медицины владыка использовал бы какие-нибудь другие средства.
Спустя несколько лет мы, будучи в Лондоне, всей семьей пришли в Успенский храм поблагодарить митрополита Антония. Он взял меня за запястье – неожиданно энергично, почти жестко – и спросил: за что? Я рассказал. Он нас благословил тогда, и это стало для нас его прощальным благословением. Я не так чтобы очень эмоциональный человек (неофитская экзальтированность прошла много лет назад), но у меня возникло стойкое чувство, что я разговаривал со святым.
Впоследствии я ощущал его поддержку в моих литературных трудах. Работая над романом «Лавр», держал в уме одну его проповедь, в которой шла речь о бывшем белом офицере, убившем по трагической случайности во время боя свою жену. Ему отпустили этот грех, но легче не становилось. И тогда владыка Антоний сказал этому человеку: «На исповеди вы просили прощения у Бога, но Бога вы не убивали. А пробовали ли вы просить прощения у своей жены?» Через некоторое время офицер пришел к владыке и сказал: «Я попросил у нее прощения. И мне стало легче».
В романе «Лавр» герой ведет бесконечный диалог с возлюбленной, погибшей по его вине. В «Авиаторе» убийца просит прощения у убитого, а в романе «Брисбен» герои продолжают беседовать с умершей приемной дочерью. Работая над этими текстами, я постоянно вспоминал и эту проповедь, и беседы покойного митрополита о болезни и смерти.
Он призывал не бояться смерти и не прятать ее в дальний угол нашего сознания. Рассматривать смерть как часть жизни. Со смертью оканчивается время, но не более того. Время (прошу прощения за невольный каламбур) – временно, а человек родится для вечности. Сила бесед владыки была в том, что он не толковал мир с указкой в руке, не чувствовал себя спикером, что ли, горнего мира. Он открывал бытие, удивлялся ему вместе с теми, кто его слушал. Это ведь чрезвычайно важно – с кем удивляться: с ребенком или со старцем. Удивление с владыкой Антонием было, что называется, высшего качества: старческую мудрость он соединял в себе со свежестью детского взгляда. Оттого повседневность казалась ему удивительной, а невероятное – закономерным. Попроси прощения у убитой – такое ведь может сказать только тот, кто живет по законам чуда.
Поначалу обычное обращение к епископу – «владыка» – казалось мне несоответствующим пастырю Антонию. Виделось тяжелым, как латы. А потом я как-то привык. В конце концов, тот, кто воюет со злом, должен быть хорошо экипирован. Кроме того, «владыка» перекликался в моем сознании с «властителем» (умов), каковым митрополит Антоний, конечно же, являлся. Умов и сердец.
Уходя, человек продолжается не только в вечности, но и во времени: живым остаются его дела, высказывания, книги. Становясь сущностью метафизической, ушедший продолжает свое присутствие на земле. Такая как бы репетиция бессмертия. Владыка Антоний уже не здесь, но мы продолжаем читать его проповеди – и плакать над ними, и улыбаться им. И удивляться, конечно же.
Часть I
От хаоса к красоте
Хаос, гармония и мир порядка[1]
Мы все время пытаемся привести в порядок мир, в котором живем. Век за веком сначала открываем для себя и анализируем составляющие этого мира, затем подчиняем их себе, а затем придаем им форму в соответствии со своими человеческими представлениями. Но даже беглое изучение истории показывает, что результаты этой деятельности, судя по всему, не способствуют установлению в мире полной гармонии. Многочисленные войны, глубокая человеческая тоска и трагичность человеческой судьбы, которые мы можем наблюдать, отнюдь не свидетельствуют в пользу нашей способности упорядочить мир.
Как знать – может быть, размышление о природе и значении хаоса поможет нам создать мир, который будет достоин себя, человека, Бога: создать град человеческий, который в конечном итоге может совпасть во времени и пространстве с градом Божиим. Думаю, в качестве девиза или эпиграфа в начале моей лекции можно привести слова Ницше, который сказал, что для того, чтобы родить звезду, нужно носить в себе хаос. Я бы хотел рассмотреть тему хаоса с разных сторон, поскольку размышлял над этим вопросом недостаточно, чтобы представить вам связную картину ощущений, которые рождает во мне эта тема.
Во-первых, существует два вида хаоса. Хаос может быть следствием распада чего-то гармоничного, красивого, упорядоченного. В таком случае хаос трагичен. Но есть и другой хаос, который предшествует порядку, гармонии и красоте. Он несет в себе множество возможностей, он живет ожиданием того, что родится из него, что придаст ему смысл. В первом случае хаос подобен разрушенному городу, мертвой цивилизации, блестящему уму на закате своей славы, изжившим себя отношениям – это конец, и он уже не может дать начало ничему новому. Во втором случае хаос полон предвкушения, надежды, из него может родиться все что угодно, хотя это не означает, что все заложенные в нем возможности обязательно будут реализованы. В качестве примера того, что я называю творческим хаосом, таким, который способен родить звезду, можно взять начало Книги Бытия.
Творческое слово Божие из ничего породило хаос, а затем, следуя Божественным указаниям, этот хаос стал раскрываться от славы к славе. Возможно, вы замечали, что каждый этап этого процесса сопровождался характеристикой «хорошо». Кроме того, из написанного, судя по всему, следует, что полнота предыдущего дня, по сути, достигается вечером следующего дня. И был вечер, и было утро (Быт. 1: 5). Потому что это развитие предполагает не увеличение яркости физического света, а раскрытие возможностей, проливающее нематериальный свет на то, что есть тьма, открывающее, проявляющее то, что было сокрыто. В этом смысле весь процесс сотворения мира и всю последующую историю человечества можно представить как постепенное проявление, поступательное раскрытие скрытых возможностей. Это хаос, из которого что-то может родиться.
Наше отношение к хаосу нельзя назвать простым, с хаосом можно взаимодействовать по-разному. В нем есть своя притягательность, как есть притягательность в буре и во всех великих и трагических событиях жизни. Притягательными могут быть смерть, страдания, война, землетрясение, гроза. Почему же они способны так манить нас? Не в том ли причина, что на мгновение мы сталкиваемся с чем-то великим, огромным – с чем-то, что заставляет нас перерасти себя и встать лицом к лицу с такими вещами, которые превосходят нашу мелкую обыденность?
Не знаю, помните ли вы два коротких рассказа Эдгара По, в которых он пытается выразить свое понимание красоты и искусства[2]. Он приводит два описания, чтобы показать, каким должно быть место, находящееся в полной гармонии с законами красоты и вкусами человека. Основная мысль, которую стремится донести По в этих рассказах: красивым может считаться только то, что сопоставимо с человеком по размеру. Чересчур маленькое пространство вызывает ощущение клаустрофобии: оно слишком мало, я не могу жить в этих узких, давящих рамках. А чересчур большое, напротив, слишком велико, слишком пугающе: я не могу с этим жить. Таково в некотором смысле и отношение человека, который отказался перерастать свое нынешнее состояние, который боится быть человеком, который не осознал, что, с одной стороны, человек подобен пылинке – крошечной, слабой, хрупкой, а с другой, если он обратится внутрь себя, то обнаружит, что целый мир – такой огромный, такой опасный, а иногда и такой трагичный – слишком мал для глубины и ширины его внутреннего «я». С чем бы он ни столкнулся в этом внешнем мире, сам он больше этого. Он может попытаться заполнить свою внутреннюю пустоту красотой, но увидев всю красоту, он все еще будет голоден; знанием – но и обретя все доступное ему знание, он останется голодным; любовью – но и познав всю человеческую любовь, он по-прежнему будет испытывать голод. Как выразился Майкл Рамзей еще в бытность архиепископом Кентерберийским, в человеке есть пустота в меру Бога – такая большая, такая глубокая, что заполнить ее может только Божественное, ничто другое. Пожалуй, это созвучно словам немецкого мистика Ангелуса Силезиуса: «Я так же велик, как Бог, Он так же мал, как я»[3]. Так же велик, как Бог, потому что ничто меньшее Бога не может нас наполнить, Он так же мал, как я, потому что таинственным образом Он может вместиться в такую бесконечно малую частицу созданной Им вселенной.
* * *
Мир, в котором мы живем, хаос, который пребывает здесь, разверзаясь у наших ног, окружает нас, окутывает со всех сторон и даже проникает внутрь. Он притягивает и манит нас – и одновременно вызывает страх. Хочу прочитать вам одно стихотворение Тютчева:
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..[4]
Это не просто дикое русское восприятие жизни. Каждый порой может ощутить эту глубину, внутренний хаос, который стремится выразить себя, вопль всего того, что могло быть, должно было быть, но не было и, может быть, уже никогда не будет, – скорбный вопль, погребальная песнь о несбывшемся, и ликующий вопль всех тех сил, которые разбудило волнение хаоса.
Каждый из нас чувствует притягательность хаоса, а временами и целые народы и целые эпохи ощущают движение хаоса, который может сломать, взорвать, разрушить что-то, чтобы дать жизнь – другую жизнь. И в то же время во всех нас живет страх этого хаоса. Не так просто заглянуть внутрь себя и увидеть, что под пленкой безопасности, в хрупких рамках видимого порядка существует весь хаос, полный возможностей, которые не желают быть обузданными, плененными, организованными. То, что происходит с душой человека, происходит и с народами, классами, эпохами.
Как же человек пытается справиться с хаосом? Есть целый ряд способов, которые можно свести к трем. Можно вернуться в этот хаос, погрузиться в него и участвовать в хаотичном бытии в надежде на то, что вместе с хаосом мы будем развиваться и двигаться к новой гармонии. Можно подойти к хаосу с верой, готовностью стоять перед ним, не вливаясь в него, не теряя своего смысла, ценности, понимания, меры реальности, к которой мы уже пришли. А можно относиться к хаосу так, как к нему относится большинство на всех уровнях – и личном, и коллективном, – пытаясь организовать хаос таким образом, чтобы он перестал быть слишком пугающим, пытаясь обуздать и укротить его.
Я хотел бы привести несколько примеров применения такого способа справляться с хаосом, поскольку в этом и состоит основная проблема жизни. Если мы примем этот способ – мы обречены. Примеры, которые я хочу привести, взяты из Библии, потому что с ней я знаком лучше, хотя и недостаточно.
Как я уже упоминал, самый простой в ситуации хаоса образ действий – пересилить хаос и привести его в порядок. При этом такой порядок всегда является порождением человеческого мышления, его цель – приспособить эту огромность к малым меркам человеческого понимания или человеческого мужества. Это относится ко всем сферам жизни.
Одним из средств борьбы с хаосом – в семье, в обществе, в природе – является подчинение, попытка обрести способность контролировать, порабощать, принуждать. А это уже преступление против самого себя, против людей или ситуаций.
Когда мы изучаем жития святых или Священное Писание – Библию, мы видим, что после первого дня творения, когда Бог создает мир, Он не подчиняет его Себе. Он отказывается прибегать к подчинению, Он дает нам свободу возлюбить Его или отвергнуть, строить мир вместе с Ним или настраивать мир против Него, творить и разрушать – мы сами вольны выбирать. И мы воображаем, будто наш выбор может быть независимым, будто у нас есть право выбирать и действовать в соответствии со своим собственным разумением и желанием. Под «свободой» люди понимают именно это: быть свободным – значит беспрепятственно делать все, что заблагорассудится. Это не так, это не свобода. […] Свобода весьма далека от того бунтарского смысла, который вкладывают в это слово участники социально-политической борьбы. Свобода – это отношения любви, воспитание в нас хозяев собственной жизни, то есть реализация нашей истинной сущности. И то, как Бог относится к нам, – это не подчинение, это нечто совершенно иное, это дар Божий, зовущий пуститься в путь, полный опасностей и риска, но также исполненный смысла и вдохновения, – путь становления.
В Писании встречается понятие, которое мы смешиваем с понятием подчинения, – авторитет. Подчинение основано на способности к принуждению, авторитет же определяется способностью к убеждению. Христос, сопровождая шедших в Эммаус, общался с ними, а они позже восклицали: Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге? (Лк. 24: 32). В других местах слова Христа определяются как дух и жизнь (см. Ин. 6: 63), эти слова были убедительны, весомы, они пробуждали в душе и в уме слышащих все, что было способно к жизни, гармонии, величию. Эти слова побуждали – но не понуждали – человека возрастать в полноту своей меры. Они обладали внутренней силой убеждения, но не подчиняли, они не могли никого заставить уверовать или принять тот или иной образ жизни, но могли перенести человека с земли на небеса, погрузить его в самые глубины человеческой души, вознести на самую высоту человеческого достоинства.
Свои отношения с нами перед лицом хаоса, с которым мы сталкиваемся просто потому, что находимся в процессе становления, Бог выстраивает с позиции авторитета. Он призывает, Он открывает нам перспективу, Он предлагает нам реализовать имеющиеся у нас возможности – ни больше и ни меньше.
Как бы сильно мы ни боялись своего внутреннего хаоса, мы все же пытаемся перевести связанные с ним проблемы на уровень интеллекта, поскольку интеллект оперирует категориями, он организован, он придает форму – свою собственную форму – всему, что попадается ему на пути. Интеллект – это хранилище. Все знание, все понимание можно собрать и поместить в надежное место как свою собственность. С другой стороны, в любой мистической и аскетической литературе всех стран и, по-моему, всех религий то, что называется «сердцем человека», напротив, является воплощением ненадежности – не из-за того, что чувства могут меняться, но из-за того, что на этой глубине ничто нельзя определенно считать своей собственностью, поскольку в самом существе человека все находится в процессе становления. Там царит хаос, но не беспорядочный и бессмысленный хаос, а тот, в центре которого находится слово Божие, способное дать ему направление, значение, форму при условии, что человек откликнется на это слово, при условии, что мы своей волей выберем Логос, выберем значение, смысл сущего и позволим ему действовать в нас как организующей силе – не подчинением или укрощением, но призывом к жизни – и к жизни с избытком. Отрицание человеческого отношения, отрицание веры и надежды, не говоря уже о любви к себе и к другим, – будь то на политическом, общественном или на личном уровне, будь то со стороны политической партии или церкви, любой идеологической группы, – программирует человека или общество, и это есть отрицание веры.
В одном из рассказов Бертольта Брехта[5] у господина Койнера спрашивают: «Как вы поступаете, если кого-нибудь полюбите?» – «Я создаю эскиз этого человека». – «А потом?» – «Я стараюсь, чтобы он был похож на него». – «Кто на кого: человек на эскиз или эскиз на человека?» – «Ну разумеется, человек на эскиз!»
Таково отношение любой тоталитарной структуры, любой структуры, претендующей на понимание событий или людей, индивидуумов и целых обществ и на способность формировать их в соответствии с правильным представлением. Это отрицание веры, поскольку вера – это такой настрой ума, при котором человек допускает мысль, что он не знает всей глубины и всех возможностей, сокрытых в человеке или в группе людей. Программировать можно только путем сопоставления всех известных фактов, построения на их основе модели и формулирования выводов. Вера начинается сразу после того, как человек признает тот факт, что вся построенная модель, какой бы убедительной, какой бы верной и какой бы стройной она ни была, не является верной во всем. Всякий раз, когда – в политике, в обществе, в образовании, в церкви или в любой другой группе или направлении – мы полагаем, будто можем взять человека и сделать из него то, к чему он в конечном счете призван, мы уходим из области веры и совершенно точно уходим из области надежды. И человек, который становится объектом таких попыток, как правило, однозначно оказывается вне области надежды.
Притягательность хаоса заставляет искать другие способы с ним сжиться – например, попытки укротить его путем сокращения масштабов, размеров, трагичности до человеческих мерок. Можно попытаться сделать это, отыскивая элементы хаоса в вещах, привычных нам по форме, цвету, звуку, осмыслению, а затем, возвращаясь к тому моменту, когда они были еще бесформенными, привыкать к этой бесформенности, чтобы больше не бояться стоящей за ними огромной реальности. Я очень мало знаю об искусстве и не рискну вдаваться в эту область, но помню, как один довольно известный художник в моем присутствии говорил о духовной значимости абстрактной живописи, отмечая, что, по его мнению, стремление отойти от конкретных форм, цветов и смыслов, вернуться к недифференцированному, непосредственному восприятию – это попытка обратиться к хаотичности. Эти слова можно воспринять как критику или, наоборот, как правомерную попытку нащупать утраченную перспективу, но разве в них нет доли правды? Не попытка ли это освоиться в ситуации, которая иначе может вызывать страх?
Поговорим теперь об отношении Бога, об отношении верующего; при этом под «верующим» я понимаю не конкретно христианина или человека, исповедующего какую-нибудь другую религию, а того, кто убежден, что за видимым миром, бросающим ему вызов, существует невидимый мир – таинственный и непознанный. Причем это непознанное объективно существует по своим законам, то есть его не следует сначала сформировать, а затем уже познавать. Мир верующих и мир хаоса совпадают. Я имею в виду, что человек может принять хаос и встать лицом к лицу с ним только в том случае, если он, как Бог, имеет мужество дать этому хаосу право на существование. Существование не застывшее в определенности, а потенциально возможное, которому необходимо помочь развиться, обрести полную и истинную сущность – вместо того, чтобы подавлять, разрушать и искажать. Чтобы посмотреть в лицо своему внутреннему хаосу, требуется большое мужество – духовное, нравственное мужество. Начинается оно с принятия себя такими, какие мы есть, – с принятия прекрасного и уродливого, уже искаженного или кажущегося искаженным, поскольку оно еще не достигло полноты своей зрелости и красоты. Это значит относиться к себе так, как скульптор может относиться к материалу, из которого он собирается ваять, извлекать красоту. Это значит изучать и познавать этот материал, но не навязывать ему законы бытия, которые на него не распространяются. Нельзя из гранитной глыбы сделать небольшое распятие из слоновой кости. Если мы не научимся этому, мы никогда не станем сами собой. Разумеется, в духовной сфере мы не просто рождаемся гранитом или глиной, чтобы и умереть гранитом или глиной. Наступают моменты, когда в нашей жизни происходит преображение, и то, что некогда было глиной, в конце концов может оказаться слоновой костью или чистым золотом, но пока мы являемся чем-либо, мы должны принимать свою сущность со всей глубиной и извлекать из нее весь смысл, всю гармонию и красоту, которые могут быть в ней сокрыты, а потом позволять ей меняться.
Так же было и в первые дни сотворения мира. Хаос начал открывать свою красоту и добро, и стал свет, и стал дневной свет, а затем, когда был сделан следующий шаг, когда появился новый потенциал, когда открылась новая глубина и новый смысл, утро стало вечером следующего дня – от славы к славе, так что слава вчерашнего дня – это всего лишь тьма дня следующего.
Пожалуй, на этом я остановлюсь. Я обещал, что поделюсь с вами разрозненными мыслями, – что ж, получилось вполне разрозненно. Но мне хотелось бы, чтобы вы собрали эти элементы, эти вопросы, эти обрывки и попытались найти смысл своими собственными рассуждениями на примере своей собственной жизни. И помните, что между хаосом и гармонией, которые идут рука об руку и принадлежат к миру веры, надежды, любви и становления, пролегает опасный, убийственный мир искусственного порядка, подчинения – мир, в котором замораживают океан, чтобы он больше не представлял никакой опасности.