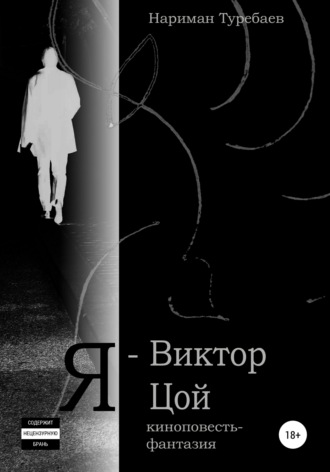
Нариман Туребаев
Я – Виктор Цой
Я пока босиком – мои красные туфельки сушатся на низкой прямоугольной батарее у стекла. Я встаю и подхожу к батарее, сажусь на пол, прислонившись к ней спиной. Горячо неимоверно, и это радует. Раздвигаю ноги в стороны, что вкупе с моей юбчонкой смотрится несколько порнографически. Бариста глядит на меня неодобрительно, но не возмущается – посетителей все равно нет, и я могу вести себя более-менее вольно.
Я смотрю, на Марата, оставшегося сидеть за столиком, и мне кажется, что он будто потерял меня – он глядит сквозь очки подслеповатыми глазами перед собой, а руками медленно вертит чашку кофе туда-сюда, и отчетливо слышен скрип крупинок сахара под ее дном. Потом его рука очень долго тянется к карману плаща, висящего на спинке стула, и не менее долго вытаскивает оттуда пачку сигарет, точнее, ее остатки, из которых выплескиваются несколько струек воды на пол. Тут мой «старичок» наконец-то выходит из своей непонятно чем вызванной прострации и смачно чертыхается с матами (что ему совсем не идет). «И что теперь я буду делать?», – после некоторой паузы растерянно добавляет Марат к своему чертыханью, уже тихо и смиренно. Да, уж, «…но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день», как поется в популярной эстрадной песне… А если сигарет нет?! Какой же он жалкий, какой же… В груди у меня ёкает – это проснулось во мне то исконно бабское желание спасти убогого, которое я так и не смогла выкорчевать из своего сердца. «Молодой человек, у вас не найдется пары сигарет для моего старшего товарища!», – решаю я обратиться к баристе, который своею полупрозрачной белой сорочкой, открывающей волосяной покров на груди, своими скулами и тонкими усиками напоминает незабвенного Фредди. Каким же благодарственным, подобострастным взглядом одаривает меня Марат в этот момент! Цвергшнауцер какой-то. Однако, «Фредди» верен закону: «У нас не курят, извините», – отвечает он. Я присматриваюсь к баристе – скорее всего, его вид неслучаен, и тогда вряд ли его прельщают мои прелести. Соблазнить его не получится. Ай вонт то брейк фри, мать его… Марат начинает заниматься полной чушью – он вытаскивает из остатков пачки остатки сигарет и пытается из них соорудить одну целую сигарету на столе. Возможно, Виктор Цой и превратился бы в такого вот нелепого и безнадежного получеловека, мало понимающего, что происходит вокруг, если бы он дожил до нашего века. Сколько он выкуривает в день, интересно? «Три пачки», – бормочет он. Опять я думаю и говорю одновременно. Три пачки – не так много, но достаточно для умственной деградации, если курить много лет. Тогда понятно. А бариста – козел. «Пойдемте отсюда, Марат! – говорю я. – Купим сигареты где-нибудь рядом».
Его взгляд не вопрошает. В них нет страха или гнева. Его глаза не смеются, он не прищуривается и не расширяет зрачки от крайнего удивления или крайней обдолбанности. В его глазах я вижу только чувство искреннего недоумения от того, что эта в меру зрелая и напористая девушка, обтянутая черным кожзамом, желает стрельнуть у него, бомжа и забулдыги, папиросу «Прима» алматинской табачной фабрики. «Ну, пожалуйста, он такой же, как ты! Одну папироску? Ты же только что спрятал пачку в кармане?», – я сижу на коленях перед мужичонкой в рваном ватнике, лежащем у толстенного дуба на аллее. А про себя думаю, глядя на его заросшее, посиневшее от холода лицо – ну, что же ты? Ты ведь все равно до утра не доживешь, замерзнешь насмерть в этой траве? Так почему бы не поделиться табаком? Бомж переводит взгляд с меня на Марата, который стоит в десяти шагах от нас, под фонарями, такой одинокий в стелящемся по земле тумане. И, порывшись за пазухой, этот пропитый насквозь бродяга протягивает мне пачку «Примы», почти полную. Я наклоняюсь и целую его в щетинистую вонючую щеку. Фу. Но по-другому нельзя, не знаю, почему. Рука бомжа падает на мою ногу, и его пальцы перебирают клеточки на моих сетчатых черных колготках. Ладно, все, хватит. Я убираю его руку, встаю с колен и иду к моему «куряге».
Он выхватывает пачку из моей руки. Затем поджигает ее зажигалкой, и стреляет первой струей дыма прямо в меня. И тут я чувствую очень знакомый запах, точнее, мы оба чувствуем (он сильнее, конечно) – я и Марат дружно поворачиваемся в ту сторону, где лежит добрый бомж. Далеко мы отойти не успели, и стоим, думаем, что нам делать с этой фигней? Меня лично это никогда не увлекало, не берет меня никакая, даже самая мозговышибающая конопля. Одно я знаю точно – в этом стылом воздухе запах мариуханы распространяется мгновенно на многие десятки метров вокруг, и нам остается только надеяться, что полицейским вряд ли хочется морозить свои попы в эту ночь, и они нас не потревожат в силу своей вечной тяги к комфорту. «Добрейшей души человек», – еле слышно проговаривает Марат, и набирает полные легкие этого смрада. Задерживает дыхание на несколько секунд и выдыхает. «Чуйская… родная, – шепчет он. – Узнаю. С 88 года не курил, с казахфильмовских времен. Как же хорошо…» И я вспомнила – Моро! Конечно же, так звали героя того фильма, которого играл Виктор Цой, и Марат сейчас говорит о тех съемках, здесь, в моем городе… Его неподдельно теплая интонация, с которой он говорит о тех временах, слегка смущает меня. «А что так плохо? Почему такой перерыв?», – спрашиваю я. Жду ответа, и дожидаюсь его только спустя полторы минуты: «Обстоятельства, Алия, обстоятельства…» Мне чуть больше лет, чем тому фильму, смотрела я его в пубертатном периоде, и ничего из него не помню. Вот только это – Моро. Имя, которым он назвался сначала. «Будете?», – предлагает он. Нет уж, спасибо. И надеюсь его «обстоятельства» не называются колонией строго режима. Больше тридцати лет все-таки прошло – для знатока «травы» немыслимый срок без кайфа. Зэка мне еще не хватало. «Я не сидел в тюрьме, нет, просто в жизни всякое бывает. Понимаете?». Понимаю, хорошо понимаю… Черт…
Он направляется к бомжу, и мне опять приходиться плестись за ним. И я иду, увертываясь от редких облачков сиреневого дыма, выпускаемых Маратом (Виктором?). Бомж смотрит в небо, не мигая. Тишина, только оставшиеся в очень малом количестве листья на дубе шелестят от ветерка. А вот он даже не шелохнется. Умер уже? Но нет, бомж вдруг улыбается и вопрошает ангельским голосом: «Видишь, брат?». Марат поднимает свои сломанные очки к небу и тоже начинает улыбаться. «Вижу!», – счастливо восклицает он. Придурки. Что они там увидели – не знаю и знать не хочу, но у меня такое ощущение, что я сейчас присутствую при зарождении новой религии, настолько единым организмом кажутся эти два чужих друг для друга человека, смотрящих с идиотскими улыбками в небо. Впрочем, и мне они чужие… На моих часах 1 час 46 минут. Курнуть, что ли? И совершенно непонятным для меня образом мы оказываемся лежащими втроем под дубом, поочередно дымя и глядя в безумно красивое небо. И из этого безумно красивого черного неба на нас смотрит безумно красивое громадное лицо, в чьих звездных глазах столько любви к нам! Это нечто окутывает нас вибрирующей, искрящейся волной, приподнимающей нас над холодом земли под нашими спинами, и эта чудесная вечность без рождения и смерти в какой-то момент пугает нас потому, что не может быть так хорошо. Не бывает. И мы возвращаемся. Но не сразу. Не сразу. Поскольку в вечности возможно предвидеть человеческий страх и точку, когда он появляется, возможно уходить от него, приходить к нему опять… После бесчисленного числа этих походов туда-сюда мы с Маратом сидим в салоне такси на заднем сиденье, и снова вместо звезд в наших глазах мелькают огни фонарей. А бомж утром умрет счастливым.
«В городе мне жить или на выселках…» Интересно, куда мы едем? Точнее, неинтересно совсем. Куда-нибудь. Куда-нибудь, без разницы, куда – все равно из этого города не уедешь никогда. Не дадут. Да и ты сама никому не нужна… И куда бы я не поехала, свой город, вместе с его хвалеными горами, яблоками и каньоном Чарын, я буду таскать на своем горбу, поскольку мы такие, не в силах жить счастливо без родной земли. Типа, я тоже патриотка – кажется, заразилась от клиентов этой чумой. Какой же бред, господи… Надеюсь, не вслух все это я думаю. Уже тоскую по небу, где была всего пару минут. И уже забываю его, хотя прошло тоже где-то две минуты с той поры, как я оттуда вернулась – 1 час 50 минут на моих часах. А этот город никак не кончается, и, наверное, надо спросить моего спутника, куда мы мчимся, но его голова камнем лежит на моем плече, и так тяжело держать ее, что моя левая сторона тела онемела. «Все будет хорошо, Алия», – шепчет он, вроде как свозь сон, потираясь щекой о мою куртку. Сколько же их было на моем левом плече, неприкаянных самцов, ищущих минутного покоя или просто вырубившихся от чрезмерного употребления спиртного? Десятка три, не меньше. Я прям гейша. Или мать Тереза для нищих духом. Мы едем вниз по наклонной, а, значит, скоро окажемся в северной части города, самой неприглядной и пролетарской настолько, что пивной перегар здесь считается достойным парфюмом. Наши шансы огрести радикально жестких приключений растут с каждым километром, и мне тревожно. Какая-то странная психоделическая музыка играет у таксиста. Или это в моей голове? «Куда мы едем?». «Кафе «Надежда»», – с явным каракалпакским акцентом отвечает водитель (уж что-что, а акценты я различать научилась в силу рабочей необходимости). Как ни странно, это кафе мне знакомо. Улица Фридриха Энгельса – там оно находится. На Энгельса отслужившие свое девчонки заканчивают свои карьеры. Одну из них я сюда провожала, и мы сидели в этом кафе после ее переезда. Печальные были посиделки. Она хотела заказать Мартини по привычке, но у них его даже нет в меню – водка, коньяк да пиво, такой у них набор. В итоге, напились с ней непонятной алкогольной продукцией до чертиков. Вскоре после этого ее телефон перестал отвечать, и она навечно сгинула в просторах первой Алматы. Зоя, тумбочка ты наша, не перепрыгнуть, не обойти… Где же ты? Рукав плаща левой руки Марата, которую он якобы невзначай кинул на мою грудь, задрался вместе с манжетой рубашки. Там какая-то царапина на запястье. Я приглядываюсь – нет, не царапина, а достаточно глубокий и, судя по всему, старый шрам. Отметина от юношеских страданий? Видимо, с той давней поры, когда эти стареющие мальчики по обычаю пытаются понарошку покончить с жизнью. Таких историй я наслышалась навалом – от каждого третьего, если не второго. Психически нестабильный народ мужики, конечно, но крайне прибыльный. Вдруг яркий свет заливает салон автомобиля, и бравый каракалпакский таксист мгновенно делает крутой крен вправо – кто-то выехал нам навстречу. Я замечаю в пролетающей мимо, чудом не врезавшейся в нас машине лицо женщины в черных очках за рулем, застывшее в крике. Таксист изощренно матерится на чистом русском, я тоже участвую в этом сквернословии, в то время как Марат валится головой мне на колени. И я снова слышу, как он шепчет: «Миром правят дуры». Охренеть. Что за фигня?! Он не мог видеть ту слепую идиотку. Это он обо мне? Услышал, как я матерюсь, и сразу записал меня в дуры?! Ах ты чмо ё…! И я наотмашь бью его ладонью по щеке. Он от неожиданности резко поднимается и бьет меня затылком в подбородок. Фонтан искр в глазах, я держусь за челюсть. Марат, прижавшись спиной к дверце, держится за макушку и стонет, с испугом смотрит на меня. А мне хочется добавить и заехать ему в пах каблуком что есть силы – я очень зла. И я даже дергаю ногой слегка, на что Марат реагирует подпрыгиванием на месте. «Черт!», – одновременно восклицаем мы втроем, включая водителя. Вслед за этим естественно следует его длинная монотонная речь о безмозглости баб за рулем, на каракалпакском. Несмотря на уничижительные характеристики моего пола, эта речь успокаивает меня, так как низкий тембр голоса водителя приятен сам по себе, да и язык значительно мягче казахского, хотя оба языка – близнецы-братья практически… О разнице этих языков, а также курдского и турецкого, уйгурского и узбекского, татарского и башкирского я могу рассуждать очень долго, но я далеко не лингвист, так что вернемся к нашим баранам. Точнее, к одному из них, который в данный момент протирает очки краем своего плаща. Пуговицы мерзко скрежещут по линзам.
Попробую оценить его по губам, которыми он смешно двигает в такт движений своей руки, теребящей очки. Достаточно большая, пухлая нижняя губа кажется искусственной – так бывает у мужчин с большой фантазией, в том числе, и сексуальной. Верхняя же губа весьма изменчива – то она узкая, почти невидимая, то вырастает до почти такой же степени пухлости, как и у нижней. Я жду, когда он закончит с очками, чтобы точнее охарактеризовать моего «героя». Наконец, он надевает очки и замирает на несколько секунд, что мне и нужно было. И вдруг на мгновенье мне кажется совершенно ясным выражение презрительности на его нижней половине лица (ведь я наблюдаю пока только губы). И именно в этой части его головы он становится похожим… на Цоя. Вот это номер… И я даже вижу его молодым, худым, с длинной шевелюрой и всего в черном, как на тех фото, что я видела много раз… Но блеск его очков рассеивает это дурацкое наваждение – его часто мигающие, пугливые глаза за стеклами снова заставляют меня вернуться к тому, с чем я имею дело – к конченному, морально раздавленному немолодому человеку. И единственное, что его роднит с Цоем – эта наша общая с ним и миллионами соотечественников азиатчина в лицах. То есть – ничего. Взгляд Марата уперся напряженно во что-то впереди – там над лобовым стеклом висит на цепочке, раскачиваясь, портрет смуглого подростка в золоченной овальной рамке. Водитель замечает в зеркале его взгляд и говорит с нежностью: «Сын мой. В Узбекистане остался, с мамой. Скучаю сильно, полтора года уже не видел». Марат кивает: «Ясно. Как зовут?». «Наржан… верблюжонок мой… Приехали». Машина сворачивает к обочине и тормозит.
Здесь туман еще сильнее, так как это низина города, и все газы, испарения, смог скапливаются здесь. В воздухе стоит специфическая смесь запахов бензина, угольной гари и мочи, и в такую холодину это даже бодрит. Я веду моего дружка к кафе, дорогу к которому еще не забыла – взяла инициативу в свои руки. В небольших лужах мои каблуки прокалывают с хрустом тонкий лед, и ноги Марата, идущего за мной след в след, уже хлюпают по прорвавшейся из-под льда воде. Мы идем молча – до переулка, где кафе, еще шагов сто. Вокруг нас еле виднеются призрачные очертания одно-, двухэтажных компактных домов за заборами. И вскоре в тумане возникает кажущаяся огромной неоновая вывеска с надписью «Надежда». Символично как-то, но непонятно, к чему сей символ. «У вас ведь тоже должен быть сын?», – почему-то решаю спросить я Марата, в голове всплыли некоторые моменты биографии реального Виктора Цоя. Мой спутник останавливается, опускает голову. «Да. Был», – бурчит он, глядя в землю. «Был?! Жив же вроде?», – удивляюсь я не очень натурально, сейчас он, наверное, соврет что-то. Но он поднимает голову и смотрит на вывеску: «Нам надо перекусить. Здесь самые лучшие котлеты по-киевски в городе. Пойдемте!». Этого престарелого любителя легких наркотиков накрыло аппетитом, только зачем ради этого так далеко надо было тащиться?! Впрочем, я тоже голодна зверски. Пойдем!
Мои сомнения насчет котлет по-киевски в этой забегаловке развеяны – перед нами на едва стоящий на своих ножках пластиковый белый столик юркий официант водружает большую тарелку с этим яством, словно это бешпармак. В центре тарелки дымится дюжина совсем немаленьких котлет, обрамленная наваленным кругом пюре из картошки и обсыпанная разнообразной зеленью. Плюс к этому на двух тарелочках по краям стола благоухают кусочки соленого сала в красном перце. Какой-то немыслимый для здешних мест славянский дастархан. Что здесь творится вообще? Кафе осталось все той же полуразваленной хибарой барачного типа, посетители – те же вышедшие в тираж дамы и их такие же непотребные клиенты, но меню убийственное просто! Вместо бывшей традиционной троицы «манты, лагман, плов», здесь в списке сплошь клецки, галушки, всяческие борщи, десяток видов вареников, сто сортов сала и куча всего такого, ультраукраинского… Портрета Петлюры на стене не хватает. Или Бандеры. «Портрет Бандеры? – спрашивает Марат удивленно. – Ну, не знаю… Хотя… Я передам Зейнеп-апа». «Кто такая Зейнеп?», – интересуюсь я, пока официант кладет мне на тарелку пару котлет, из которых сочится ароматное сливочное масло. «Хозяйка кафе. Когда-то мы были близки. Очень», – откровенничает Марат. Апа… Сколько же лет этой старушке Зейнеп? Хотя, сам-то он далеко не первой свежести, наверняка, она примерно в его возрастной категории, этакая молодящаяся румяная особа с плотно залитыми тональным кремом бороздами морщин на лице. Хотелось бы на нее посмотреть. Что ж, понятно почему мы здесь. Вдруг за нашими спинами начинает играть минусовка, и кто-то бухой в умат истошным криком запевает «Отель Калифорнию». Я оборачиваюсь – на том месте, где раньше стоял электормангал, появилась некое подобие сцены, на которой размещена какая-то звуковая аппаратура, и мерцает экран телевизора на стене. Из-за голов тех, кто сидит за столами, нам видна лишь шатающаяся тень поющего с микрофоном на стене. Ужас. Приличное, тихое место для установления кратковременных интимных связей в среде рабочего класса превратилось в ад. «Почему ад?», – удивляется мой геронтофил, Марат. Тут шустрый официант подносит нам совершенно логичную здесь бутылку «Немирова», наливает мне полную рюмку, и я залпом выпиваю. Водка – чистый огонь. Закусываю сочной котлеткой, нежное куриное филе просто тает во рту. И в это же самое время, когда я наслаждаюсь прекрасной трапезой, тот алкаш продолжает уродовать своим мерзким визгливым голосом душевную песню… «Вкусно?», – заискивающе спрашивает Марат. «Да», – все-таки, соврать я не могу. «Так почему же ад тогда?, – снова он переспрашивает. – По-моему, здесь мило». «Потому что караоке придумали для ада. На Землю оно случайно попало. Вы же, как музыкант, должны это понимать», – отвечаю. «Я как музыкант люблю любую музыку», – улыбается Марат. Типа выкрутился, но я соглашаюсь с ним, поскольку лень вступать в музыковедческие дискуссии, и он совсем не музыкант, да и водочка так приятно пошла по всему телу. Вот, оказывается, чего мне не хватало. Так хорошо! И даже если сейчас после караоке начнется залихватская «живая» музыка с массовыми танцами и турецким диджеем, мне все равно будет хорошо. Нам наливают еще по рюмке, я снова выпиваю, и тут, само собой, начинается «живая» музыка с массовыми танцами и турецким диджеем. Ноги словно растеклись желеобразной массой под столом, встать я точно не смогу. По-прежнему хорошо. Конечно, с новым содержанием кафе «Надежда» потеряло свой особенный шарм, ну и черт с ним.
В этой простенькой казахской песне, под которую все танцуют, поется о любви между представителями противоположных социальных слоев, некоего условного мультимиллионера и некой условной крестьянки, общающихся друг с другом исключительно посредством смартфонов. Она, по-моему, так и называется, как и поется в ее бесконечном припеве: «Алло!». Любовь, она всегда такая – один богат, а другой наоборот. Я смотрю на Марата и думаю, если допустить существование серьезных (даже страшно подумать) отношений между нами, то кто из нас кто? Хотя, нас ведь трое, так как он шизофреник с двумя противоположными личинами внутри. От его внутреннего «Цоя» неизвестно чего ожидать, то ли славы, то ли разрухи, «Марат» же весь на поверхности и крайне предсказуем, и утром он просто вернется в свой дом под гнет тиранши-жены. Нужен ли мне будет такой? А, может, я из этого ничтожества человека сделаю? А? Азарт-то какой для энергичной и неглупой женщины! И, в то же время, неопределенность будущего в случае с фантомным «Цоем» сулит одиночество, а, значит, абсолютную автономность и независимость. Правда, реальный Цой плохо кончил, но не сомневаюсь, что его женщина все это имела, то есть, на фиг ему была не нужна, плюс получала бонусы в виде неожиданных жизненных встрясок… Тут я понимаю, что сама становлюсь шизофреничкой, думая о несуществующем любовном треугольнике с несуществующими персонажами. Вот что значит чуйская конопля, помноженная на украинскую водку. Но, если здраво судить и при этом видеть перед собой треснувшие, заляпанные жирными пальцами стекла очков Марата, то богач – это я, без всяких сомнений. Несмотря на то, что его состояние пока на 600 долларов больше моего. «Вы так таинственно улыбаетесь», – говорит мне, дыша в ухо сильным перегаром, бедный Марат. Я таинственно улыбаюсь потому, что съела две котлеты по-киевски, и через час оставлю тебя без копейки денег, дорогой! Такая вот история нашей любви. А я вспомнила это слово, которое подходит для теперешней «Надежды», чью некогда аутентичную убогость вдруг украсили нездешним национальным колоритом. Постмодернизм. Чистой воды постмодернизм. Слово это было вбито мне в голову одной бывшей постоянной клиенткой, докторшей искусствоведения – кажется, она научный труд на эту тему писала в период наших с ней встреч (полных жутких страстей, кстати говоря, что для женщин неудивительно). Преподавала она в университете, полунищая в общем-то, и занималась я ею чисто из природной любознательности. По крайней мере, теперь Кандинского от Малевича отличаю, хотя лет 12 назад и имен этих не слыхивала.







