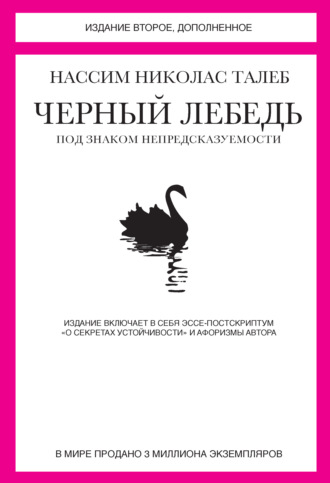
Нассим Николас Талеб
Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)
Где все происходит?
Каким образом человека, мечтавшего стать “философом” или “исследователем философии истории”, занесло в бизнес-школу, причем в такую, как Уортон, мне по сей день неясно. Там я осознал, что не только второстепенный политик в маленькой древней стране (и его философствующий водитель Михаил) не знает, что происходит на свете. В конце концов, люди в маленьких странах и должны не знать, что происходит. Увидел я вот что: в одной из самых престижных бизнес-школ мира, в самой могущественной в истории человечества стране, топ-менеджеры самых влиятельных корпораций рассказывают нам, как они зарабатывают деньги, а сами тоже, наверно, понятия не имеют о том, что происходит. На самом деле для меня это “наверно” граничило с “наверняка”. Я ощущал хребтом бремя эпистемологической самоуверенности рода человеческого[11].
Это был период настоящей одержимости. Я начал осознавать, что меня будет занимать в жизни: невероятное событие с серьезными последствиями. Концентрация везения вводила в заблуждение не только этих лощеных, заряженных тестостероном менеджеров корпораций, но и очень образованных людей. Понимание этого превратило моего Черного лебедя из проблемы удачливых и неудачливых бизнесменов в проблему знания и науки. Моя идея заключается в том, что некоторые научные построения не только бесполезны в реальной жизни (потому что они умаляют роль маловероятных явлений, то есть заставляют нас их игнорировать), но во многих случаях могут еще и порождать Черных лебедей. Это не просто классификационные ошибки, из-за которых вы завалились на экзамене по орнитологии. Я начал проникаться значимостью своей идеи.
С временной надбавкой в 8 3/4 фунта
19 октября 1987 года, по истечении четырех лет после окончания Уортона (и с весовой надбавкой в 8 % фунта), я возвращался домой из офиса инвестиционного банка “Кредит Сю-исс Фёрст Бостон” на Манхэттене к себе, в верхний Ист-Сайд. Я шел медленно, потому что голова у меня кипела.
В тот день я стал свидетелем тяжелейшего финансового потрясения: крупнейшего обвала рынков в (современной) истории. Оно было тем более болезненным, что пришлось на время, когда мы обрели уверенность в способности всех этих платонизирующих экономистов-краснобаев (с их бесполезными “гауссовыми кривыми”) предотвращать – или хотя бы предсказывать и контролировать кризисы. Обвал даже не был реакцией на какие-то конкретные новости. Накануне ничто не указывало на его вероятность – если бы я напророчил что-то подобное, меня бы сочли ненормальным. Это был типичный Черный лебедь, хотя тогда я еще не придумал ему названия.
На Парк-авеню я встретил коллегу, Деметрия, но стоило нам обменяться парой слов, как в наш разговор, не думая о приличиях, вмешалась взволнованная женщина: “Послушайте, вы, случайно, не знаете, что происходит?” У людей вокруг был абсолютно ошарашенный вид. Чуть раньше я видел, как несколько солидных мужчин тихо плакали в трейдинг-зале банка “Фёрст Бостон”. Я провел день в эпицентре событий; оглоушенные люди метались, как кролики в свете фар. Когда я вернулся домой, позвонил мой кузен Алексис и сказал, что его сосед покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры. Происходящее даже не казалось бредом. Это было подобие Ливана, только перевернутое: пережив и то и другое, я с изумлением обнаружил, что финансовые неприятности могут деморализовать сильнее, чем война (вдумайтесь в то, что финансовые потери и сопутствующее унижение могут приводить к самоубийству, а война, насколько мне известно, нет).
Меня пугала пиррова победа: восторжествовав интеллектуально, я боялся, что окажусь чересчур прав и что система рухнет у меня под ногами. Мне не хотелось, чтобы мои предположения подтвердились настолько. Я всегда буду помнить покойного Джимми П., который следил за тем, как тает его капитал, и полушутя умолял цену на экране замереть на месте.
Но в тот момент я осознал, что мне наплевать на деньги. Я испытал страннейшее чувство – ничего более странного мне испытывать в жизни не приходилось, – оглушительный трубный звук возвестил мне, что я был прав, да так громко, что у меня завибрировали суставы. Это было физическое ощущение, ни разу с тех пор не повторявшееся, – некая смесь радости, гордости и ужаса.
Я восторжествовал? В каком смысле?
В первые годы обучения в Уортоне мои интересы приобрели очень четкую, но необычную направленность: я обдумывал, как получать прибыль, делая ставку на редкие и неожиданные события, которые берут начало в платонической складке и относятся “экспертами”-платониками к разряду “невероятных”. Напомню, что платоническая складка – это то место, где наше представление о мире перестает соответствовать реальности, о чем мы не ведаем.
Дело в том, что я рано начал зарабатывать на жизнь с помощью “финансовой инженерии”. Я стал одновременно квант-инженером и трейдером. Квант-инженер – это ученый-технолог, применяющий математические модели неопределенности к финансовым (или социально-экономическим) данным и сложным финансовым инструментам. Правда, я был квант-инженером наоборот: я изучал изъяны и пределы этих моделей в поисках платонической складки, где они перестают работать. Я также занимался реальным трейдингом, а не “просто болтовней”, что не характерно для квант-инженеров, потому что им не позволено рисковать; их задача – анализ, а не принятие решений. Я был уверен в своей полной неспособности предсказывать поведение рыночных цен, но и в неспособности других (хотя и не догадывающихся о том, чем они рискуют) – тоже. Большинство трейдеров просто “выхватывают центы из-под движущегося катка” с опасностью быть раздавленными неожиданным катаклизмом, но спят сном младенцев, ни о чем таком не подозревая. Я занимался той единственной работой, которой мог заниматься человек, ненавидевший риск, чуявший риск и ни черта не смысливший.
Между тем технический багаж квант-инженера (смесь прикладной математики, инженерии и статистики), в придачу к активной практике, оказался очень полезным для того, кто задумал сделаться философом[12]. Во-первых, когда на протяжении пары десятков лет подвергаешь эмпирическому анализу широкий спектр данных и на основании этого анализа принимаешь рискованные решения, то без труда замечаешь в структуре мира те элементы, которых не видит платонизирующий “мыслитель”, чересчур замороченный и запуганный. Во-вторых, учишься мыслить формально и систематически, вместо того чтобы увязать в частностях. И наконец приходишь к заключению, что философия истории и эпистемология (философия знания) неотделимы от эмпирического исследования временно́го ряда данных, то есть последовательности чисел во времени, своего рода исторического документа, содержащего цифры вместо слов. А числа легко обработать с помощью компьютера. Анализ исторических данных показывает, что история движется вперед, а не назад и что в действительности она хаотичнее, чем в рассказах хронистов. И эпистемология, и философия истории, и статистика ставят своей целью постижение сути фактов, исследование механизмов, их порождающих, и отделение исторических закономерностей от совпадений. Они все апеллируют к знанию, хотя и располагаются, так сказать, в разных корпусах учреждения.
Независимость в образной форме
В ту ночь, 19 октября 1987 года, я проспал двенадцать часов.
Трудно было сказать моим друзьям, так или иначе пострадавшим от краха, об этом чувстве торжества. Бонусы в те времена были во много раз меньше нынешних, но если бы мой работодатель, “Фёрст Бостон”, и финансовая система в целом продержались до конца года, я получил бы свой дивиденд. Иногда это называется “в ж… деньги!”, что вопреки грубости выражения означает следующее: вы можете жить-поживать как викторианский джентльмен, не обремененный необходимостью служить. Это психологический буфер: капитал не настолько велик, чтобы превратить вас в никчемного богача, но достаточен, чтобы позволить вам заняться чем-то другим, не особенно беспокоясь о финансовом вознаграждении. Он защищает вас от умственной проституции и освобождает от давления извне – любого давления. (Независимость – понятие относительное: меня всегда поражало количество людей, которых астрономические доходы превращают в совершенных лакеев, все усиленнее лебезящих перед клиентами и работодателями и все больше пожираемых страстью к наживе.) Пусть не слишком солидное, это вспомоществование в буквальном смысле слова излечило меня от каких бы то ни было финансовых амбиций – оно взывало к моей совести всякий раз, когда я отвлекался от ученых занятий ради материальной выгоды. Заметьте, что восклицание “в ж… деньги!” отлично соотносится с восхитительной возможностью произнести эту короткую фразу перед тем, как вы положите телефонную трубку.
То была пора, когда трейдеры, потеряв деньги, крушили телефоны. Кто-то предпочитал ломать стулья, столы или еще что-нибудь, лишь бы треснуло погромче. Как-то раз на чикагской бирже один трейдер бросился меня душить, так что четыре охранника едва его оттащили. Он рассвирепел, потому что я залез на “помеченную им” территорию. Кто же захочет расстаться с такой средой? Променять ее на обеды в обшарпанной университетской столовке с замшелыми профессорами, обсуждающими последнюю кафедральную интригу? Поэтому я остался (и по сей день остаюсь) квант-инженером и трейдером, однако устроил свою жизнь так: работал по минимуму, но интенсивно (и с увлечением), сосредоточивался только на высокотехнических аспектах, никогда не посещал деловых встреч, избегал компании “успешных людей”, не читающих книжек, и примерно каждый четвертый год целиком посвящал ликвидации пробелов в своем научном и философском образовании. Чтобы постепенно вынашивать мою главную идею, мне надо было стать фланером, профессиональным медитатором, сидеть в кафе, гулять без поводка, привязанного к рабочему столу и организации, спать столько, сколько душе угодно, читать запоем и никому ничего не объяснять. Мне требовался покой для возведения, кирпичик за кирпичиком, целой философской системы, основанной на моей идее Черного лебедя.
Философ из лимузина
Война в Ливане и крах 1987 года представлялись мне явлениями одного рода. Мне было очевидно, что, когда дело доходит до признания роли таких событий, почти у каждого обнаруживается ментальное слепое пятно. Неужели люди не в состоянии разглядеть этаких мамонтов? или моментально забывают о них? Ответ напрашивался сам собой: это психологическая или даже биологическая слепота; проблема – не в природе событий, а в том, как мы их воспринимаем.
Я закончу эту автобиографическую прелюдию вот какой историей. Я не имел определенной специальности (за пределами моей рутинной работы) и не стремился иметь. Когда на разного рода вечеринках меня спрашивали о моей профессии, меня подмывало ответить: “Я эмпирик-скептик и фланер-читатель, жертва одержимости одной идеей”, но для простоты я говорил, что вожу лимузин.
Однажды во время перелета через океан меня вдруг вздумали перевести в салон первого класса, где я оказался рядом с шикарно одетой, энергичной дамой в золоте и бриллиантах, которая без перерыва жевала орехи (возможно, низкоуглеводная диета), требовала только воду “Эвиан” и параллельно читала европейский выпуск “Уолл-стрит джорнал”. Она то и дело порывалась заговорить со мной на ломаном французском, потому что я читал (по-французски) книгу социолога и философа Пьера Бурдье, где, по иронии судьбы, речь как раз шла о знаках социального различия. Я сообщил ей (по-английски), что я водитель лимузина, гордо упирая на то, что вожу только “самые крутые тачки”. Весь полет прошел в ледяном молчании, и, хотя напряжение было весьма ощутимо, мне удалось спокойно почитать.
Глава 2. Черный лебедь Евгении
Розовые очки и успех. – Как Евгения перестала выходить замуж за философов. – Я вас предупреждал
Пять лет назад Евгения Николаевна Краснова была никому не известной и никогда не публиковавшейся романисткой с необычной биографией. Невролог с философской жилкой (первые ее три мужа были философами), она вбила в свою упрямую франко-русскую головку, что должна облечь свой опыт и мысли в литературную форму. Она превратила свои теории в истории и перемешала их с разнообразными автобиографическими комментариями. Она избегала журналистских штампов современной беллетризованной документалистики (“Ясным апрельским утром Джон Смит вышел из дома…”). Диалоги иностранцев везде давались на их родных языках, а переводы лепились внизу наподобие субтитров в фильмах. Она не желала переводить на скверный английский то, что говорилось на скверном итальянском[13].
Ни один издатель не принимал ее всерьез, хотя в индустрии существовал тогда некоторый интерес к тем редким ученым, которые ухитрялись изъясняться хоть мало-мальски вразумительно. Несколько издателей согласились с ней побеседовать в надежде, что она перерастет свои причуды и напишет “популярную научную книгу о феномене сознания”. К ней проявляли достаточно внимания, чтобы посылать ей письма с отказами, изредка – с оскорбительными комментариями, что было лучше куда более оскорбительного и унизительного молчания.
Ее рукопись приводила издателей в замешательство. Она даже не могла ответить на их самый первый вопрос: “Это художественная литература или документальная?” Другой вопрос в стандартном издательском бланке-заявке – “На кого рассчитана эта книга?” – тоже оставался без ответа. Ей говорили:“Вы должны представлять свою аудиторию” и “Дилетанты пишут для себя, профессионалы – для других”. Ей также советовали втиснуться в рамки конкретного жанра, потому что “книжные магазины не любят путаницы, им нужно знать, на какую полку поставить книгу”. Один редактор покровительственно добавил: “Дорогая моя, разойдется всего десять экземпляров, включая те, что купят ваши родственники и бывшие мужья”.
За пять лет до этого ее занесло в одну знаменитую литературную мастерскую, которая оставила у нее ощущение тошноты. “Хорошо писать” означало, по-видимому, подчиняться набору случайных правил, возведенных в абсолют и подкрепляемых так называемым “опытом”. Писатели, с которыми она познакомилась в мастерской, учились имитировать то, что считалось “успешным”: все они старательно подражали рассказам, когда-то печатавшимся в “Нью-Йоркере”, не понимая, что ничто новое, по определению, не может быть создано по образцу старых “Нью-Йоркеров”. Даже сама форма рассказа казалась Евгении вторичной. Руководитель мастерской вежливо, но твердо объяснил ей, что ее случай безнадежен.
В конце концов Евгения поместила полный текст своей главной книги – “История рекурсии” – в Сети. Там у нее нашелся небольшой круг читателей, включая ушлого владельца крохотного издательства, который носил очки в розовой оправе и невнятно лопотал по-русски (пребывая в уверенности, что чешет как по писаному). Он предложил опубликовать книгу Евгении и принял ее условие – не менять в ней ни слова. В обмен на ее неуступчивость издатель предложил ей мизерную часть обычных авторских отчислений – он мало что при этом терял. Она согласилась, так как у нее не было выбора.
Евгении понадобилось пять лет, чтобы превратиться из “одержимой манией величия эгоцентристки, упрямой и сложной в общении” в “упорную, целеустремленную, трудолюбивую и воинственно независимую женщину”. Ибо ее книга постепенно приобрела известность, став одной из самых больших и удивительных удач в истории литературы; она разошлась многомиллионными тиражами и завоевала “признание критики”. Безвестное издательство с тех пор выросло в крупную корпорацию, где вас приветствует при входе (вежливая) девушка-секретарша. Книжку перевели на сорок языков (даже на французский). Фотографию Евгении можно увидеть повсюду. Она объявлена родоначальницей “школы целостности”. У издателей появилась новая теория: “дальнобойщики, которые читают книги, не читают книг, написанных для дальнобойщиков”; и они едины во мнении, что “читатели презирают писателей, которые стараются им угодить”. Научная работа, теперь это ясно всем, может скрывать за формулами и терминами банальность и пустоту, но “целостная проза”, представляя идею в необработанном виде, позволяет читателю сразу ее оценить.
Евгения перестала выходить замуж за философов (они слишком много спорят) и прячется от журналистов. В аудиториях литературоведы обсуждают тенденции, указывавшие на неизбежность зарождения нового стиля. Деление литературы на художественную и документальную признают устаревшим и уже не отвечающим запросам современного общества. Было же очевидно, что требовалось устранить разрыв между искусством и наукой. Когда это произошло, сомнения в таланте писательницы отпали.
Многие редакторы, которых потом встречала Евгения, пеняли ей, что она обратилась не к ним, искренне веря, что они немедленно разглядели бы достоинства ее сочинений. Спустя несколько лет один видный литературовед напишет в эссе “От Кундеры к Красновой”, что истоки ее творчества просматриваются у Кундеры, который смешивал эссе с метакомментарием (Евгения никогда не читала Кундеру, но видела экранизацию одной из его книг – в фильме комментариев не было). Другой крупный ученый разберет каждую ее страницу, везде находя следы влияния Грегори Бейтсона, вкраплявшего автобиографические сценки в свои научные работы (Евгения никогда не слышала про Бейтсона).
Книга Евгении – это Черный лебедь.
Глава 3. Спекулянт и проститутка
Основополагающая разница между спекулянтами и проститутками. – Справедливость, несправедливость и Черные лебеди. – Теория знания и доходы профессионалов. – Почему не стоит навещать Крайнестан, если только вы не победитель
Стремительный взлет Евгении был возможен только в той единственной среде, которую я называю Крайнестаном[14]. Скоро я объясню, в чем состоит главное различие между родиной Черных лебедей под названием Крайнестан и мирной, спокойной и скучноватой провинцией Среднестан.
Лучший (худший) совет
Когда я перебираю в уме все те “советы”, которые мне за жизнь надавали, я понимаю, что только пара идей осталась со мной навсегда. Остальные были лишь словесной шелухой, и я рад, что большинству из них не последовал. Почти все они сводились к рекомендациям типа “суди обо всем уравновешенно и здраво”, что противоречит идее Черного лебедя, поскольку эмпирическая реальность не “уравновешенна” и ее собственная версия “здравого смысла” не согласуется с его обычным житейским определением. Быть настоящим эмпириком – значит отражать реальность со всей возможной правдивостью; быть честным – значит не бояться того, как будут восприняты и к чему приведут ваши неординарные поступки. В следующий раз, когда кто-нибудь пристанет к вам с ненужными советами, мягко напомните ему о судьбе монаха, преданного смерти Иваном Грозным за то, что он вылез со своим (нравоучительным) советом. Это на короткое время помогает.
Самый важный из данных мне советов был, как видно по прошествии времени, плох, но при этом сыграл очень важную роль, поскольку заставил меня глубже уйти в динамику Черного лебедя. Это произошло, когда мне было 22 года, февральским днем, в коридоре здания по адресу: Уолнат-стрит 3400, Филадельфия, где я тогда жил. Один второкурсник Уортона посоветовал мне приобрести “масштабируемую” профессию, то есть не ту, что оплачивается “по часам”, а значит, ставит ваш доход в зависимость от количества вашего труда. Это был простейший способ разделения профессий. Элементарное обобщение привело меня к различию между типами неопределенности и, следовательно, к серьезной философской проблеме – проблеме индукции, которая, собственно говоря, является техническим обозначением Черного лебедя. Это позволило мне превратить Черного лебедя из логической загвоздки в палочку-выручалочку и, как мы увидим чуть позже, укоренить его в ткани эмпирической реальности.
Как вышеупомянутый совет мог натолкнуть на мысль о природе неопределенности? Некоторые профессии – стоматологи, специалисты-консультанты, массажисты – не могут “масштабироваться”: существует верхний предел количества пациентов или клиентов, которых можно принять за определенный промежуток времени. Если вы занимаетесь проституцией, то работаете определенное количество часов и оплата у вас (как правило) почасовая. Кроме того, ваше присутствие необходимо (я так полагаю) для оказания соответствующих услуг. Если вы открываете дорогой ресторан, то в лучшем случае будете стабильно наполнять свой зал (если только не решите запустить франшизу). В этих профессиях, сколько бы вам ни платили, ваша выручка подвержена закону тяготения. Ваши поступления зависят от ваших постоянных усилий в большей степени, чем от качества ваших решений. Кроме того, результаты подобной работы обычно предсказуемы: колебания будут, но не такие сильные, чтобы прибыль одного дня перекрыла доходы всей остальной жизни. Иными словами, вы не будете лететь на колеснице, запряженной Черными лебедями. Евгения Николаевна не смогла бы за одно мгновение преодолеть пропасть, отделяющую неудачницу от супергероини, если бы она была налоговым инспектором или специалистом по грыже (но и в неудачницах она бы не ходила).
Однако существуют профессии, которые, в случае везения, позволяют вам добавлять нули к своей продукции (и доходу) при приложении небольших усилий – или вообще без приложения оных. Будучи ленивым, считая леность достоинством и желая высвободить как можно больше времени для медитации и чтения, я немедленно (и необдуманно) сделал вывод. Я провел грань между человеком “идей”, продающим интеллектуальный продукт в виде деловой операции или произведения, от человека “труда”, продающего собственно свой труд.
Если вы человек “идей”, вам не нужно работать в поте лица – только интенсивно думать. Сколько бы единиц продукта вы ни выдавали – сто или тысячу, – силы тратятся те же. В квант-трейдинге купить сто акций не легче, чем купить сто тысяч или даже миллион. Это те же телефонные звонки, те же расчеты, те же юридические документы, тот же расход “серых клеточек”, то же усилие по проверке транзакции. Причем заниматься этим можно лежа в ванной или сидя в римском баре. Вы не ворочаете тяжести, а просто жмете на рычаг! Ну хорошо, насчет трейдинга я погорячился: заниматься им лежа в ванной все-таки нельзя. Но при хорошей сноровке у вас остается порядочно свободного времени.
То же относится к музыкальным записям и киносъемкам: пусть суетятся звукорежиссеры и операторы, а вам не обязательно каждый раз играть, чтобы вас видели и слышали. Равным образом и писатель столько же времени корпит для завоевания одного читателя, сколько для покорения нескольких сотен миллионов. Дж. К. Роулинг, автор книг про Гарри Поттера, не должна писать каждую книгу заново, когда кто-нибудь хочет ее прочесть. Не то у пекаря: для каждого нового клиента он выпекает свежий батон.
Таким образом, грань между писателем и пекарем, биржевым спекулянтом и врачом, вором и проституткой облегчает оценку человеческой деятельности. Она отмежевывает те профессии, в которых можно прибавлять нули к доходу, не прикладывая дополнительных усилий, от тех, где расходуются силы и время (ресурс и того и того ограничен); иными словами – от тех, что подвластны законам тяготения.






