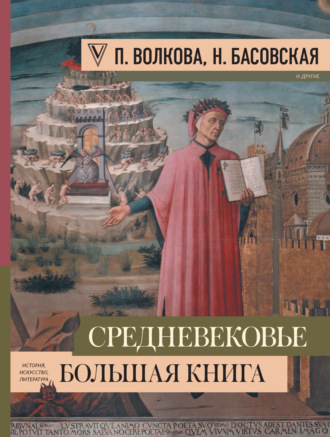
Наталия Басовская
Средневековье: большая книга истории, искусства, литературы
Русское художественное сознание
В искусстве самая важная проблема – ментальность. Это художественное сознание, которое формируется долго и долго длится. Меняя формы, оно не изменяется по сути. Это то, что называется традицией художественного сознания, культурой зрения и восприятия искусства. Все современные традиции во всем мире формировались в Средние века. Средневековье и создало фундамент сознания: это конфуцианство, буддизм, христианство восточное и западное, и даже индуизм.
Средневековые религии отличаются от дорелигиозного сознания тем, что дорелигиозное сознание является мифическим или языческим. Все религии подразумевают присутствие одного Учителя, который оставляет книгу, потому что Учителя без книги не бывает. Сам Учитель книг никогда не пишет. И Мухаммед никогда не писал: он что-то бормотал себе под нос, а за ним записывали. И Христос не писал. Был ли он вообще грамотным? Булгаков писал, что Христос знал много языков, был образованнейшим человеком. Но есть и другие мнения. Да и важно ли это было для него? Они ведь все трансляторы, их направили к людям, чтобы передать послание, их делом была проповедь. Допустим, он напишет, но кто прочитает эту книгу? Сколько человек? Они все были людьми пути, бродяжничали и проповедовали. А соборы – это скопление людей. И христианство для России является основополагающим фундаментом в ее мытарствах.
Что было до христианства? Что делали, когда принимали христианство? Первым делом сожгли всех Перунов. С чего-то ведь надо было начать? Утопить в Днепре, поджечь, чтобы и следа не осталось. Проходят века. Что надо сделать для антиалкогольной компании? Вырубить виноградники – тогда и пить будет нечего. Но это не помогло: алкоголики стали пить одеколон. Видимо, источник зла в другом.
Никогда в России не была и не будет изжита очень глубокая связь с природой. Перунов нет, и Перуны есть. В самой эстетике воплощения христианства, в самом художественном национальном образе живет этот дух слияния, начало природы и начало этического учения. Эти вещи соединены. На Западе совершенно иначе. Вспомним Владимир: сколько там на храмовом фасаде цветов, трав, птиц, разных диковин! А в Новгороде этого нет, Новгород не расшифрован с этой точки зрения. Все символы в Новгороде вжаты в стены, и они все до одного перунские. Во Владимире увлекались красотой, а в Новгороде – солярные символы. И еще в Новгороде на могилу до сих пор приносят котлеты и другую еду, которая полагается покойному. Новогород всегда отличался своей ересью, своей связью с природой, с перунскими образами. В Новгороде на каждой церкви изображено солярное колесо – солнце на ножках, как на рязанском орнаменте. Они просто впрямую говорят – Ярило. И на новгородских домах никаких красот, как во Владимире. Формы грубоваты, на материале след руки. Они не стеснялись своих пристрастий, Новгород жил отдельной вольной жизнью.
Для России архитектура очень важна, и она категорически делится на деревянное зодчество (это дольнее) и каменное (это горнее). Различие в материале принципиально: дерево – вещь временная, оно сгорает, а камень – вечный. Дерево – это смола, лес, тепло, семья, это связь с землей, с традицией. Сын женился – ставим дом. А церковь ставят для всех. Только в XVII веке, когда на Западе расцветает барокко, у нас в первый раз указом был построен теремной дворец и началось итальянское строительство.
Когда ставили церкви, дома, имения, всегда старались соблюсти принцип, что был в Древней Греции, – принцип гармонии между миром дольним и горним, чтобы и в душе была гармония. Искусство всегда противостояло реальности. Оно никогда не было нереалистичным. Оно противостояло и давало другой образец, как это гениально показал Тарковский. Поэтому если на иконе изображается всадник на лошади, то это не какой-нибудь конь, а сказочный, на тонких ногах, с гривой, хвост в кольцах, божественный, вечный. На нем нельзя пахать или воду возить.
Архитектура соединяет в себе две прямо противоположные вещи: саму архитектуру и костюм. Из чего шьем? Из какого материала строим? Если писать историю архитектуры, а не зодчества, то ее надо писать как развитие материалов. Греки строить не умели, но они были гениальными зодчими и создали ордер. У них был мрамор, который крошился. А вот римляне строить умели: они создали бетон и знали кирпичные кладки.
С другой стороны, именно архитектура и ничто иное есть самое идейное искусство, это концентрация идей, выраженная в сегодняшнем материале. Архитектура – не только материал, но и застывшая на века мысль.
По костюму можно сказать, какое тысячелетие на дворе. Одну из самых больших революций в костюмах произвели испанцы в XVI веке. Это было не модное законодательство, что несколько иное, а революция: они изобрели корсеты. Корсет был и в Египте, но он был другим. Испанцы же сделали мужской и женский корсеты. Потом этот корсет стал камзолом, и они надели штаны. До них носили лосины, а они предложили штаны, и их перестали носить только в XIX веке. А к чему крепились чулки? На машинках к корсету. Вся эта одежда у них была очень тесной. Итальянцы носили длинный и удобный плащ. А испанец стоит и не дышит в своем корсете, коротком плаще и неудобном воротнике. Когда показывают испанский театр и люди там метают шляпы – это смех. Шляпы метали французы! А испанцы не могли это сделать из-за корсета, и они придумали носить маленькие шапочки – беретики со страусовым пером. Так выглядит портрет испанского достоинства. Они создали гениальный семантический ряд. Они не могут ответить, им трудно говорить, и они только глазами делают знаки. Какая энергия внутри! Убить готов, а двинуться не может.
Наш костюм – это кодовый язык. Костюм и архитектура имеют одинаковую кодовую систему: это сочетание материала и абстракции. А русская культура, которая стала складываться только в X веке, так же, как и мусульманская, находится в кодовом языке. Встает вопрос: а где ставили строения – усадьбу, церковь? Это сочетание начала человеческого бытия и природы. Оно присутствует в русской поэзии по сегодняшний день.
Что замечательно в русской поэзии, так это то, что все это есть среди поэтов разных веков. У Баратынского – современника Пушкина, у Бродского – нашего современника, у Пастернака, Петровых, Завальнюка.
Вот, например, Баратынский:
А ты, когда вступаешь в осень дней,
Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды
И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее сбираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты…
Как абсолютно и естественно слова связаны с очень философской мыслью о том, что такое закат жизни! Речь идет о человеке, но в словах и образах природы: плоды, жатва, осень. Эти стихи из цикла «Осень».
Другой пример – Мария Петровых. Она училась на одном курсе вместе с Арсением Тарковским. Мария – поэт 1920–1940-х годов. В основном она зарабатывала переводами и была очень знаменитым переводчиком с нескольких языков и интереснейшей женщиной.
Я живу, озираясь,
Я припомнить стараюсь
Мой неведомый век.
Все забыла, что было,
Может, я и любила
Только лес, только снег.
Снег – за таинство света
И за то, что безгласен
И со мною согласен
Тишиною пути,
Ну а лес – не за это:
За смятенье, за гомон
И за то, что кругом он,
Стоит в рощу войти…
Что это такое? О чем она пишет? Речь идет о том же, о чем и у Баратынского: человек заглядывает внутрь себя и пробует найти ответ на какие-то вопросы.
Леонид Завальнюк всю жизнь писал стихи, но ему было все равно, печатают его или нет. Когда ему были нужны деньги, он садился в машину и подрабатывал извозом. Это крупнейший философ, поэт, художник. Он всегда находился в диалоге с миром и природой:
Дерева вы мои, дерева,
Есть любовь к вам, но есть и привычка
Повторять просто эти слова:
Дерева вы мои, дерева!
…И простор, и надежда, и боль,
И такое желание продлиться,
Прорасти над судьбой, над собой,
И с безумною бездною слиться.
Нет молитв у меня, есть слова,
Что порой бормочу я сквозь слезы:
Сосны, клены, дубы и березы,
Дерева вы мои, дерева!
Какие у него стихи – философские, поразительно глубокие, когда он разговаривает с природой. Он был не только замечательным поэтом, он много рисовал.
Другое его стихотворение:
Под моим присмотром было два коня.
Оба вдруг исчезли среди бела дня.
Одного украли, а другой сбежал.
Этого, второго, я очень уважал.
Но промчались годы – миллиарды лет.
Снится конь украденный, а сбежавший – нет.
Снится, что мы едем. Снится, что поем.
Снится, что мы вечны и всегда вдвоем.
Тихий летний вечер, долгий, долгий путь…
Снится, что на свете можно все вернуть.
И сквозь слезы радости я шепчу любя:
– Здравствуй, конь украденный,
Друг ты мой украденный.
Что бы ни случилось, я найду тебя!
Здесь, в этих стихах, идет все та же сквозная линия. Все идет через природу. У Завальнюка верба – подружка, он просто часть этой вербы. Ему ничего не было нужно от этой власти. И ему было все равно, что о нем скажут, что о нем напишут. Он был полностью свободен!
А вот Бродский, «Рождественская звезда»:
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти:
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца…
А здесь театр выстроен по-другому. Кулиса, масштаб, но все тоже самое, через метель, через звезду…
Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере,
используй, чтоб холод почувствовать, щели
в полу, чтоб почувствовать голод – посуду,
а что до пустыни, пустыня повсюду.
Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере,
огонь, очертанья животных, вещей ли,
и – складкам смешать дав лицо с полотенцем —
Марию, Иосифа, сверток с Младенцем.
Представь трех царей, караванов движенье
к пещере; верней, трех лучей приближенье
к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал
(Младенец покамест не заработал
на колокол с эхом в сгустившейся сини).
Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном.
Какая разная поэзия повсюду и какая разная театрализация! Но вся она об одном и том же. Мы можем осознать себя, свою историю, через посредника, который называется поэт. То же относится ко всей русской литературе в целом: к Гончарову, Толстому, Чехову, Пушкину. Такова суть и ментальность восприятия мира художниками. И когда мы говорим об архитектуре, о русском портрете, лирическом отношении к человеку, то подразумеваем идеальный ландшафт внутри человека, несмотря на то, что портреты могут быть разными.
Исторический мир, как и архитектура, имеет глубокий интимный знак и начало. Мы можем наблюдать удивительную вещь – это то, как русская живопись решает вопрос многофигурных композиций. Начнем с иконы «Битва новгородцев с суздальцами».
Эта икона в иконостас не входит, потому что туда входят только деисусный чин, праздники и избранные святые. Эта же икона написана по случаю, и мы можем назвать ее историко-героической композицией: она воспроизводит реальное событие: братья поссорились с братьями, суздальцы с новгородцами. Что-то не поделили и пошли друг на друга войной. Но, как известно, они заблудились в лесах и не встретились. Вернувшись домой, ни одна, ни другая сторона на эту тему не распространялась. Однако новгородцы оказались хитрее и создали икону на тему якобы своей победы. И здесь показана победа новгородцев над суздальцами. Эта икона гениальна и является историческим документом, очень характерным для России. Новгородцы первыми сказали: «Было сражение, и победа осталась за нами!»
В верхней части иконы рассказывается очень трогательная история. Здесь изображен мост через Волхов и новгородский детинец, Новгородский кремль. Кстати, он никогда не изображался, кроме лещадки. Лещадка – это скалообразные зубцы, совсем как у Джотто. Показан Новгородский кремль, София Новгородская, а из Софии вываливаются новгородцы и падают на колени, потому что из Византии привезли в город чудотворную икону Богоматери «Знамение». Вот византийцы передают новгородцам икону, вот новгородцы ее берут, затем увозят, а другие ее встречают. Одеты они замечательно: мы видим здесь новгородское платье. Икону встретили и поместили в детинце. Тут случалось неприятное – разлад с суздальцами, и новгородцы поехали на переговоры с ними.
На суздальцах татарские шапки, и по этому признаку сразу понятно, кто они. Новгородцы с ними договариваются, а суздальцы собрались в кучу и сразу начали стрелять. О том, что враждующие стороны просто не поделили деньги, ничего не сказано. Но зато суздальцы представлены изменщиками, они хуже басурман, потому что крещеные. Еще и говорить не начали, а выпустили сразу столько стрел! Но в новгородцев стрелы не попадают. И конечно, говорит икона, победа будет за Новгородом, потому что у новгородцев Борис, Глеб, Александр Невский и архангел Михаил. Это необыкновенная икона: как написаны лошади, всадники, татарские шапки, само действие! Показан моральный облик человека и моральный облик врага. И мы клеймим врага как изменника Родины и веры. Изменники всегда будут наказаны – вот суть этой иконы.
Точно так же Георгию Победоносцу не надо напрягаться, а достаточно взять спицу и убить дракона, потому что на его стороне правда и сила этой правды. И эта героическая интонация абсолютной победительности, потому что речь идет о защите глобальных ценностей. Это всегда проходит в больших исторических фильмах и композициях. Суриков очень это любил: это видно по картинам «Переход Суворова через Альпы» и «Боярыня Морозова». Хотя он и был человеком XIX века, но вся композиция этих картин построена на историко-героической мощи.
XVIII век эту тему не любил: он ее пропускал, фокусировался на совершенно других ценностях. Для XVIII века новой ценностью является открытие возможностей изображения человека. Большой ценностью является портрет. И даже когда Левицкий показывает «Чесменскую победу», то что мы видим? Парадный портрет Екатерины II. Через нее, через государыню, через личность художник показывает победу, которая видна на заднем фоне. XVIII век любит многогранно открывать все жанры портрета и впервые в живописи показывает пейзаж.
А начало XIX века уже совершенно другое. Этот век создает одну из грандиозных эпопей – «Явление Христа народу» Иванова. Это одна из самых красивых картин в России. И сама картина, и ее тема очень важны. В России всегда было две тенденции: та идея, которая показана на этой картине, и та, которая показана в «Боярыне Морозовой». Это тема очень глубокого христианского тезиса. Тема христианства никуда не уходит, она остается в самых великих произведениях. Это тема духовно-нравственного преображения, тема Сергия Радонежского, Куликова поля, Андрея Рублева, Феофана Грека, Кирилла Белозерского, Андроника Блаженного, Серафима Саровского, исихазма. Нравственное преображение – одна из главных тем русской монументальной идеи. Именно это описывает Лесков в своей повести «Чертогон». В этом отношении очень любопытна также «Смерть Ивана Ильича».
Тут, правда, вступает еще одна тема: нравственное преображение не в самих себе, а при помощи бомбы. Сейчас царя уберем, Столыпина уберем, еще в кого-нибудь стрельнем – и путь расчищен.
В случае с Ивановым интересно то, что он никогда не работал в России. Он, как только закончил Академию с золотой медалью, уехал в Италию и остался там навсегда. И написал он это полотно в Италии. Полотно огромное, и размер его мастерской должен был быть большой, чтобы не только вмещать это полотно, но и для того, чтобы художник мог постоять, посмотреть, подумать, подойти, сделать мазок кистью. Кроме того, нужно было место, чтобы писать натурщиков. Картина написана чистой масляной краской. Сколько пудов краски ушло! Откуда у него были деньги, чтобы написать эту картину? Ведь чтобы привезти ее в Россию, нанимали специально пароход, чтобы доставить ее не сворачивая. Все говорят: он был бедный, он так нуждался… Какая там нужда! Его мастерская находится рядом с домом, где жил Феллини, ее можно увидеть. Иванов жил в огромном доме с садом и мастерской, Он ел, писал письма Гоголю и всем остальным, ездил во Францию, в Нидерланды, любил посещать Германию. Так откуда эти деньги? Его содержала царская семья. И столько лет, сколько он писал эту картину, ему регулярно поступало золото, чтобы он мог закончить эту работу.
В его переписке с Гоголем много интересного. Гоголь жил рядом, в десяти минутах хотьбы спокойным шагом, и тоже был щеголем – за каждой вытачкой следил. Вот пишет Иванов Гоголю про русское преображение, а тот отвечает: «Друг мой, получил от тебя письмо. Два дня не мог прочитать – колики в животе были». Или: «Прочитал, но не мог вникнуть. Надо было часы золотые чинить, ходил к часовщику. Давай встретимся в кафе, поговорим о жизни».
Иванов был в Италии со своими единомышленниками. Там была очень большая группа живописцев, жили в том же городе и так же плохо, как и он. В основном это были немцы, но было много и англичан. Этих людей звали «назарейцы». Они образовали очень религиозную, очень идейную художественную группу, в которую входил Иванов, а также многие другие известные люди, например Каспар Давид Фридрих. Возглавлял ее Фридрих Овербек. У них была главная идея: любыми путями возродить монументальную идею национальной живописи и истинно христианское искусство. Это была задача начала XIX века среди таких грандиозных живописцев. Для Иванова возрождение – это просветление и просвещение народа. Он взял евангельскую тему и попытался показать нам, возможно ли преображение. Писал он ее практически всю жизнь и, пока писал, открыл пейзаж.
Это очень интересная картина. Если бы Рафаэлю сказали: «Напиши картину, как приходит мессия и являет собой знак духовного преображения», то тот бы первым делом посмотрел на размеры, затем взял бы бумагу, разметил ее и сказал: «Вот, светиться он должен тут. Потом, кто у нас проповедует? Он будет стоять по диагонали здесь. А теперь строим пространство так, чтобы оно было наиболее выигрышно для того рода послания». И только потом он бы сделал то, что сделал в «Афинской школе», и расставил бы людей так, чтобы они были на месте. Была бы решена главная задача.
Но у всех художников XIX века главная задача была иной, и они без конца говорили о ней. И когда Иванов начал рисовать картину, он совершил ошибку, как и Суриков. Эта ошибка есть и у современных кинорежиссеров, и у художников: они пишут этюды персонажей, кто как реагирует. А на что? Вот этого как раз и нет. На что он указывает? Здесь же ничего нет! Что представляет центр и из-за чего они были так потрясены? Иванов писал натурщиков. Писал и писал. И поэтому его творчество состоит из этюдов к этой картине. У Сурикова в «Боярыне Морозовой» тоже самое: картина состоит из этюдов к этой картине. Совершенное падение монументального искусства в XIX веке.
Когда подходишь к этюду Иванова, где вода написана просто гениально и парень выходит из воды, видишь, как это прекрасно. Но картина-то о другом! Что в ней действительно хорошо, так это то, как написан итальянский ландшафт: можно мысленно убрать людей и любоваться природой – и это будет преображение. Как он пишет дымку, свет, воду, отражение, деревья – это нечто невероятное! Поэтому сказать, что картина плохая или хорошая, нельзя. Она грандиозная, но на ней написано столько лжи, что деваться некуда. Если говорить правду, он, как художник грандиозный, искал одно, но нашел другое: он нашел новый способ изображения природы. Он нашел другие формы художественного мышления, очень прогрессивные. И скорее всего, для него самого его картина до конца не была ясна.
XIX век – век не фиксации итога, а наблюдения пути. Эволюция, которая происходит в нас в результате того, что мы к чему-то подходим. Происходит развитие прозы и романа. Это век «Мертвых душ» Гоголя. Это век долгого внимательного повествования, где наблюдается огромное количество различных форм изменений. А картина, как правило, создает выжимку, итог. Самое интересное, что вся героическая летопись русского монументального искусства была сильно идеологизирована, как и художники. Живописцы делились на две категории: на тех, кто писал портреты, и на тех, кто писал на религиозную тему. Это не французы, которые гордились тем, что они агностики и атеисты, и писали распад общества. Русские художники писали преображение. У них на первом месте была религиозная тема духовного преображения через просветление духа. И конечно, они все грешили способностью скорбеть за весь народ.
Когда Репин пишет своих «Бурлаков на Волге» – это скорбь за народ? Да. А зачем он писал? Затем же, зачем и Горький писал «На дне»: чтобы показать страдание народа. А народ просил его это делать? Народ когда-нибудь видел эту картину? Но мы же любим страдать вслух от лица народа и выражать полностью наше сочувствие соболезнованием.
Репин писал эту картину в Рыбинске – главном город бурлаков. Там жили интересные люди, которые занимались таким вот извозом. Зачем за них скорбеть, если они счастливы были? Там конкурс был на бурлаков, как в Венеции у гондольеров. У бурлаков были целые гильдии, они за работу деньги делили определенным образом, и извоз был просто необходим. Это был их труд, они эти деньги зарабатывали. Среди них были и пьющие, и нормальные люди. Репин хотел показать измученный народ, но поскольку он плохо себе представлял, что это такое, у него был голос с неба. Этим голосом был Стасов. Не Белинский и не кто-то другой, а именно Стасов посмотрел и сказал: «Все надо переписать! Решительно не тот цвет!» Стасов диктовал художнику, каким цветом стоит писать. Это все нам известно из писем и документов. Стасов гипнотически действовал на многих, в том числе и на Репина.
Репин был очень интересным художником, но все эти композиции в XIX веке имели очень большой изъян. Народ они не знали, чем живут – не знали и не понимали. Но им надо было проявить себя в качестве передовых духовных людей. И это осталось до сих пор, никаких изменений это не претерпело, особенно в области так называемых историко-героических картин. Это даже не традиция, а духовное страдание. Что при этом делать – неизвестно, поэтому в итоге проиграли все.
В России не всегда получался историко-героический жанр, потому что всегда на первом месте была идеология. XIX век – это не лучший период для монументального искусства. Сильным местом в это время была литература, и художники стали подделываться под литературу: «Выдь на Волгу: чей стон раздается над великою русской рекой?» И художники показывают эти стоны на Волге, но кому? Кто покупал эти картины? Их покупал Третьяков, который сначала держал их у себя дома, а потом назначил совет и передал городу.
В это время между западниками и славянофилами начинает разгораться спор о том, кто был Петр Великий. С точки зрения Ге, Петр был царь большой, но супостат.
Репин написал картину «Иван Грозный, убивающий своего сына». Это сыноубийство, и у России больше нет законных наследников. Но эта тема не может обсуждаться средствами картины.
И Ге тоже пишет картину «Петр допрашивает царевича Алексея в Петергофе». На ней царевич Алексей – ничтожество, бледная моль, немочь, худой, вялый, ни на что не пригодный человек. Череп у него странной формы. Кто такой царевич Алексей? Никто. А Петр? Может, и строг, но справедлив. Ге создает концепцию, матрицу этих отношений, выраженную иллюстративным образом.
Эту картину он написал так, как написали бы ее малые голландцы: очень реалистически, документально, показывая театральную мизансцену в интерьере. Он сделал ее специально так, как если бы мы сами присутствовали при этом допросе. Что здесь есть? Для Ге очень важен преображенский мундир Петра. Он пишет его очень скрупулезно. Эта картина – сценическая площадка и внутри нее происходит действо. Ее невозможно анализировать, ее можно только описать. А диалог просится сам.
С этой картиной связан еще один факт. Когда снимали фильм о Петре, то актеров подбирали согласно изображению на картине. Поэтому появился Черкасов. Художник задал гениальную матрицу: вот вам Алексей, а вот вам и Петр. И по-другому уже никто и никогда их не представлял. Ге предложил определенную историческую матрицу, и персонажи пошли гулять сами по себе.
В 1971 году в Музее изобразительных искусств проходила выставка. На этой выставке был специальный зал петровского времени, и там было пять или семь портретов Екатерины. Она не была похожа на актрису Тарасову. Все художники изобразили орангутанга: такая здоровенная бабища, с огромной грудью, с бровями, как у Брежнева. То ли художники хотели ей так польстить, то ли действительно она была так страшна, но на портретах в ней проглядывало что-то звериное. И еще там был портрет Меншикова, которого можно было узнать на расстоянии. Дальше – портреты Петра. Он там молодой: эти желваки, улыбка озорная, наглая, глаза наглые. Лента красная, плечо вперед, с вызовом. И что мы читаем под портретом? Цесаревич Алексей Петрович. Постойте, но он же должен быть таким, как на картине Ге! А картина говорит: нет, я таким никогда не был. Картина эта из Исторического музея, можно пойти и посмотреть: никаких подмен.
Поверьте, Алексей – точная копия Петра. Такой же энергичный, злой, белозубый, наглый, и такая же мощная энергетика.
У меня есть очень интересный сценарий под названием «Метафизика». Он был напечатан. Начало идет от того момента, когда первый граф Толстой ловил царевича на Западе. Царевич рвался к власти. Он не мог дождаться, когда отец помрет, а тот все живет и живет, хотя серьезно болен. Немецкие врачи держат его на перловке, потому что она необыкновенный продукт: в ней в большом количестве собраны витамины и природный энергетик. Царевич ждет смерти отца, а Петр все не умирает. Конечно, это был самый настоящий политический заговор.
И теперь понятна несостыковка в фильме. Зачем убивать Алексея, если он внешне выглядит так, как на картине у Ге? Зачем его казнить? Кто он такой? Инфузория, амеба – ни духа, ни мысли, ничего! А вот если он выглядел так, как на портрете из Исторического музея, то, конечно, у Петра страх был настоящий. Это был человек, подобный ему самому. И Алексей был чистым Петром I.
Писатели и художники XIX века занимали места историков и философов. Когда они писали картину, их интересовала не столько формальная или живописно-образная сторона вопроса, то есть живопись как таковая, сколько историко-идеологическая сторона. Они подменили собой в XIX веке философов.
Толстой вел переписку со своей теткой по очень важному для него вопросу: он хотел найти того, кто был первым графом Толстым, откуда у них титул и графский перстень. У него была мечта: он хотел, чтобы первым графом был некто Иван Толстой, святой, умерший на Соловках. Он его почитал и мечтал, чтобы основание рода Толстых было оттуда, и поэтому собирал материал о нем. Но когда Лев Николаевич узнал правду, то полностью охладел к источнику рода, потому что им оказался не Иван, а его отец – Петр Толстой. И когда он вник в жизнь Иванова отца, аппетит у него исчез совсем, потому что Петр Андреевич Толстой оказался стрелецким сыном. Петр I простил стрелецкое прошлое отца Петра Андреевича, а поскольку он был необыкновенно умен, послал его уже в зрелом возрасте учиться за границу.
Дальше история Толстого просто фантастическая. Он был послом в Стамбуле, вел восточную политику Петра. Умнейший человек, образован, но Петр I не был бы Петром I, если бы не делал то же самое, что и люди, подобные ему. Он сказал: «Ты стал европейцем, ты умен, дипломатичен. Излови моего мальца». Дал ему в помощники графа Румянцева, который на самом деле оказался чистым д’Артаньяном. У нас был свой д’Артаньян, и это граф Румянцев – чистейший мушкетер! И этот д’Артаньян вместе с Петром Андреевичем отправились искать Алексея. Когда они его привезли, подкупив Ефросинью и тещу Алексея, то есть мать первой его жены, Петр сказал: «Ну что, друг мой, тебе и следствие вести. Я организовал под тебя пыточный отдел».
В России пыточного отдела не было. А Петр I под Петра Андреевича Толстого организовал пыточный отдел и поставил его во главе. И вот он, просвещенный человек и сын опального стрельца, пытал Алексея. Там было что пытать: Петру надо было знать, с кем тот связался. Он же знал, что перед ним стоит он сам, только моложе. И он помнил свои дела очень хорошо. Так Петр Андреевич Толстой стал палачом. Но это было не все. Его унизили до конца. Рядом с ним был граф Апраксин. Все сторонники Алексея были лишены титулов и имущества, и графский титул Апраксина и все имущество его с царскими дворами были переданы Петру Андреевичу. И он получил перстень. Могло это понравиться Льву Толстому? А Иван был старшим сыном Петра. Влюблен был в отца, боготворил его. И когда, наконец, в результате Петр Андреевич Толстой был смещен и сослан на Соловки, то поехал туда вместе с Иваном. Там они и умерли. И перстень по завещанию был передал другому. Лев Николаевич, узнав обо всем этом, испытал разочарование и прекратил переписку.
Вернемся к Ге. Он же написал «Тайную вечерю», и на этой картине изобразил в образе Христа Герцена. Даже русские этому немало удивились, но Герцен есть Герцен, непререкаемая фигура. Маркс был на втором месте после него.
Художники были очень связаны с передовыми идеями, русской политикой, они занимались историей, страданиями народа, истоками и корнями. При этом они неплохо жили. И поэтому, когда они писали портреты или пейзажи, у них в этот момент включались рецепторы определенных восприятий, но как только дело доходило до исторических композиций, все тут же выворачивалось в другую сторону. Это конец XIX – начало XX века. В это время возникает замечательная богатырская тема Васнецова и Врубеля. Это очень интересная вещь.
Русские художники XIX века принадлежали к передовому социал-демократическому опыту. Васнецов этим не занимался и принадлежал к другому направлению: к поэтическому, модернистическому. Он входил в группу так называемых художников русской реалистической школы XIX века. Передвижники – это неправильное название: очень суженное, ограниченное и окончательно идеологизированное. Эта историческая тема разделена на две линии: документальную, как у Ге или у Сурикова, и мифологизированную. Это была эпоха национально-патриотического подъема, только они по-разному это понимали, занимаясь историей и страдая за Родину, и по-разному транслировали то, что понимают.







