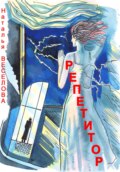Наталья Александровна Веселова
Хроники странствий петербургского художника
Смутно помню, что было потом… Обалдевшие, вероятно, мы благодарили нашу гениальную Марию, возможно, даже с нашей юношескою горячностью произносили какие-то броские слова… Но что значили все эти слова после того, что только что произошло с нами? Великая всепроникающая музыка гения попросту смыла все слова… Что чувствовала Мария, видя ту реакцию, которую произвела на нас исторгнутая ею божественная музыка гениального Баха? Я думаю, что она оценила, не могла не оценить в нас самых благодарных слушателей.
Расставание наше было грустным… Оставаться и говорить о чем-то суетном и незначительном было невозможно. Нелепо, может быть, неуклюже, но впервые в своей жизни я поцеловал женскую руку… В какой-то момент наши взгляды встретились, и мне показалось, что в глазах Марии, этой, безусловно, красивой и более чем привлекательной миниатюрной женщины, шевельнулась на мгновение глубинная грусть. Расставания ли… Надежды ли… Прощания ли… И тотчас что-то незнакомое с болью оборвалось у меня внутри, и надо было немедленно подавить это в себе, чтобы не натворить глупостей… Мне это удалось. Уже в дверях огромного пустого класса она с некоторой неуверенностью в голосе пригласила нас в следующую субботу на очередную репетицию…
Прошло несколько дней после этой удивительной встречи и того потрясения, которое она оставила нам в наследство. Мой друг Сашка неожиданно уехал в Питер. Что-то произошло у него с любимой девушкой. Я остался в Риге, впав в некую меланхолию. Какое-то опустошение проникло в меня, ничто не радовало, куда-то делся, сойдя на нет, недавний интерес к окружающему незнакомому миру. Тошнило и от немногих однокурсников, которые ещё не уехали. Я уже собирался взять билет и тоже уехать домой в Питер, но что-то удерживало меня… Я знал: это что-то, я точнее, кто-то, была Мария…
Ждать до субботы стало невмоготу. Мне было муторно. Однажды вечером я бродил по Домской площади и, подойдя ко входу в собор, увидел афишу, приглашающую на концерт органной музыки. Известный органист должен был играть Баха, прелюдию ре-минор. Я уже хотел взять билет, но какая-то тайная сила удержала меня от этого… Я развернулся, чтобы уйти, и тут … И тут я увидел ЕЁ. Да, я не мог ошибиться, это была она… Мария… Это была её походка, её миниатюрная фигура… Она, не спеша, чуть в раскачку, шла по дальней стороне площади, невдалеке от известного рижского кафе «Три брата».
Сердце моё дрогнуло, затрепетав с невиданной силой… Я посмотрел на свою по-рабочему небрежную одежду, которая так отличалась от нарядов гуляющей публики. Плевать! В каком-то помутнении, не глядя под ноги, я бросился на другую сторону площади… Не помню, как я приблизился к ней и произнёс её имя… Она обернулась, и знакомая полуулыбка осветила её прекрасное, трижды прекрасное лицо. «Игорь, вот это встреча! Как неожиданно! Я думала, вы уже уехали». Я слышал её чудный голос, и у меня кружилась голова… Так действовал на меня алкоголь… «Мария… Я думал, я обознался… И вправду неожиданно…» – слова вязли у меня во рту, беспомощно прилипали к пересохшему языку. Но разве могло быть иначе?! «А где ваш друг Александр? Как ваша практика?» – звучало, как в тумане. Каким-то чутьем до меня доходило, что Мария также автоматически произносит эти слова, чтобы скрыть, замаскировать своё волнение. И тут нам обоим пришла спасительная мысль, почти одновременно озвученная нами, когда мы подошли ко входу к знаковому рижскому кафе «Три брата», вернее, Мария опередила меня на пару секунд: «Может, кофе?».
Через несколько минут мы сидели вдвоём, друг напротив друга, за небольшим уединенным столиком по-рижски уютного кафе, у окна с видом на не менее известную площадь… «Расскажите о себе», – глядя на меня со своей обворожительной улыбкой, произнесла Мария, пока мы ждали официанта. Я облегченно вздохнул… Что я мог рассказать о себе, мальчишке, когда моя настоящая жизнь только начиналась? Я чувствовал, как во мне поднимается волна недвусмысленного интереса к этой красивой женщине, явно старше меня и, разумеется, опытнее во всех отношениях. И все-таки мне стало легче, уже потому, что я мог говорить о вещах для меня привычных и представлявших бесспорный интерес. Но прежде чем рассказывать о себе, я счёл нужным поведать Марии о том, какой эффект произвела на меня её потрясающая игра, и, не убоявшись некоторого пафоса, рассказал ей о том, какие сложные чувства пробудились во мне и как это подействовало на меня после… Я упомянул о своей меланхолии и чувстве подавленности, опустошающей меня… Я видел и чувствовал, что Мария слушает меня с искренним и неподдельным интересом, не пытаясь прервать, и это придавало мне уверенности. Глаза её, сверкая огоньками нетерпения, неотрывно смотрели на меня. Так на меня не смотрела ещё ни одна женщина. Не боясь выглядеть смешным, я продолжал изливать перед ней душу и то, что накипело в ней в эти последние дни…
Аве, Мария (двадцать лет спустя)
1990 год. Середина жаркого июля. Около 3 часов дня. Лесной дорогой я еду на своём «Москвиче» в глухую псковскую деревню Бараново… Там ждёт меня одна женщина моего возраста. Она – питерская художница, притом, очень талантливая. Она вдова и у неё громкая фамилия моего любимого поэта Серебряного века. Что меня связывает с ней? Это стоит отдельного рассказа…
Мы познакомились с Натальей в Питере год назад, в общем для нас питерском Союзе Художников, на большом и шумном перевыборном собрании, проходившем в большом зале Петербургской консерватории. В перерыве я увидел женщину, свою коллегу, полчаса назад смело выступившую на трибуне перед огромной, кипящей выборными страстями, бурной аудиторией членов Союза всех секций… С трудом сдерживая волнение, она пробовала пристыдить некоторых не в меру ретивых ораторов, увлёкшихся перемыванием грязного белья и публичным выяснением отношений. «Смелая женщина! Как она их!» – подумалось мне, сидевшему очень далеко от сцены. В перерыве я увидел ее прислонившейся к одной из колонн огромного вестибюля. Она стояла одинокая, погружённая в свои мысли и, казалось, отгородившаяся от шумного и пестрого сообщества наших коллег-художников. Я подошёл к ней и поблагодарил за смелость её краткого, но отрезвившего всех выступления. По её реакции на мои слова, я понял, что ей польстило моё неравнодушное внимание и одобрение её позиции. Так состоялось наше знакомство с Натальей, эффектной женщиной, ярким художником-прикладником с непростым характером и со своей жизненной позицией. Должен сказать, что мне всегда нравились такие женщины, такого человеческого типа: волевые и женственные, независимые и искренно-доверчивые, преданные своему делу… Наталья была из их числа. Но был в ней и особый шарм, некая изюминка, сразившая меня. Склонность к задумчивости, бесшабашная смелость, скрытый темперамент и своеобразная тонкость восприятия. Я почувствовал всем своим существом, что я должен быть с этой женщиной. Что это моя женщина! Наш роман развивался ошеломительно быстро и бурно – и это в 40 лет! Мне было легко с ней: мы разговаривали, мыслили и чувствовали на одном языке.
Года за 4 до нашей встречи я купил себе избу весьма далеко от шумного и порядком надоедавшего Питера, в небольшой псковской деревне, расположенной в границах Пушкинского заповедника… Намотавшись до этого продолжительное время по городам и весям великой советской державы, я устал душевно и решил уединиться. Прошло почти 27 лет, как я окончил Академию, позади было много всего, от чего хотелось убежать, спрятаться, зарыться в себя. Я проводил в моем деревенском убежище много времени в году, занимаясь творчеством и погружаясь в спасительные размышления. Нигде мне так хорошо не думалось и не работалось, как в моей ставшей родной деревеньке. Неподалеку, в соседней деревне, я помог купить и Наталье вполне приличный дом-избу, где она могла проводить время одна или со своими несовершеннолетними детьми. Живя рядом, мы часто виделись, регулярно ездили к Пушкину, бывали в окрестных деревнях и городках. Наезжали и в соседнюю Латвию…
Однажды, устав от сидения на месте, я предложил Наталье рвануть в Ригу на моем «Москвиче». Ей понравилась эта идея, и мы решили сразу осуществить наш план…
Уже час мы тряско едем по разухабистой грунтовке в Красногородск и далее к латвийской границе. Вот эта сакральная вьющаяся пышным сосновым лесом дорога, где мы были мучительно счастливы! Ильинское… Сафоново… Незаметный для чужих глаз поворот на большую, окружённую лесом поляну, где год назад мы провели ночь любви в моем авто… Дорога моей зрелой любви… Дорога безудержной, отпущенной на волю, отрицающей все страсти. Кто прошёл её в своей жизни, тот меня поймёт… В Красном мы ночевали в агрошколе-детском доме, у моего друга-директора этого старейшего детского дома Псковщины, собравшего сирот со всех районов обширной области. Уважив нашу просьбу и войдя в наше «безвыходное» положение, нас поместили в пустующем помещении медпункта, в изоляторе для тяжелобольных (мы и были больны!), где пары сдвоенных коек вполне хватило для нашего прогрессирующего любовного рецидива…
Странная встреча произошла по нашем пробуждении, больно врезавшаяся мне в память… Пробудившись и наскоро перекусив, мы было собрались продолжить путь, как вдруг моё внимание привлекла грустная детская мордашка, прильнувшая к толстому стеклу, отделяющему наш «изолятор» от небольшой палаты… Ребёнок лет семи смотрел на нас такими печальными глазами, что нам стало не по себе, если не сказать стыдно… Кто ты, мальчонка, и что ты делаешь здесь? Вероятно, эти вопросы звучали нелепо в данной ситуации: было ясно, что ребёнок находился здесь в полной изоляции, будучи болен какой-то заразной болезнью. Как потом мы выяснили у моего друга, директора детдома, мальчик, его звали Виталик, как моего сына, был помещён в изолятор, потому что болел чесоткой. Он сирота при живой матери, которая живёт далеко и давно не навещает сына… Это взорвало меня, я попросил директора дать мне адрес его матери и обещал, что обязательно напишу ей письмо, где выскажу все, что накипело у меня на душе (позднее я действительно написал ей это письмо). С грустью в душе, усиленной чувством стыда за подаренную нам радость, мы покидали с Натальей это печальное место, этот приют обделённых родительской любовью, несчастных детей-сирот…
Лямоны, заброшенная тогда усадьба Пещурова, дяди канцлера Горчакова, лицейского товарища Пушкина (куда, кстати, нелегально приезжал наш поэт, находясь в ссылке в Михайловском). Остатки старинного дворянского парка… Грустные следы неведомой нам жизни предводителя дворянства Опочецкого уезда, влиятельного и авторитетного помещика Пушкинского времени… Неужели и после нас останутся такие же руины, и моё Букино со временем превратится в пепелище? К счастью, в наше время усадьбу Лямоны спасли силами местных энтузиастов, а моя убогая деревенька пока ещё держится на плаву… Шустрая, скользящая, прячущаяся в густых кустах река Льзя, граница с Латгалией… Пересекая её в эти жаркие дни июля 1990 года, мы ещё не знали, что через месяц с небольшим она будет навсегда закрыта для нас в этом романтичном месте пропуска, которую не раз мы пересекали прежде.... Прежде… Какое, если вдуматься, страшное слово, намекающее на преходящесть всего земного, на краткость всего, что отпущено человеку в этом изменяющемся мире… Глядя на чёрную, лениво истекающую воду этой почти незаметной речушки, мы думали с Натальей об одном и том же: о мимолетности собственной жизни, обставленной фатальными ловушками неумолимого рока – нам ли было не знать об этом…
Наталья приехала в Питер из Москвы, куда ранее приехала с Украины, из городка Шепетовки, где окончила среднюю школу. Отец её был военным прокурором. Не доучившись в худучилище им. 1905 года, чтобы не потерять время, она рванула в Питер, покоривший её с порога, поступила в «Муху» на факультет художественной росписи тканей. Окончила. Нашла себе здесь мужа-инженера, став ленинградкой, дважды родила. Скоропостижная смерть мужа сделала её вдовой в 30 лет… Мы встретились через 10… Так легла карта. Так повернулась Судьба, похожая на изменчивый диск Селены. Мне показалось тогда, что она чувствовала себя одинокой и чуждой большому, некогда поразившему её городу, где жить оказалось куда сложнее, чем это казалось в юности… Не потому ли так засосала нас поздняя любовь, чтобы дать нам шанс добрать своё, вырванное у нас изменчивой Судьбой?
Миновав Резекне, мы рассекали по классному шоссе общим направлением на Ригу. Странная табличка-указатель на обочине шоссе с указанием на некую деревушку, или хутор по-здешнему, привлекла мое внимание. Ба, да я не верю своим глазам! Здесь родилась любовница Меншикова и жена самого Петра Первого, сделавшего её императрицей, – будущая Екатерина Первая, она же Марта Скавронская. Вот это встреча! Какой исторический сюрприз преподносит нам с виду унылая Латвийская глубинка, намекая об уважительном отношении к своей Русской истории. Пётр Первый… Любвеобильная Екатерина… Латвия… Неисповедимы пути большой истории. Может, и наши с Натальей убогие псковские деревеньки отметятся когда-нибудь на преображенной карте будущей России, а оригинальный указатель в виде верстового столба на Киевском шоссе укажет прагматичным белорусам на мою бывшую деревеньку Букино?
Третий час пути стал предательски утомлять. Сказалась бессонная ночь, отданная любви. Серая тоскливая лента шоссе надвое рассекала чуть всхолмленную, окрашенную в желтые тона спелого лета, в целом, не слишком выразительную эту часть Латвии с разбросанными повсюду небольшими хуторами, обходя небольшие городки и стремя нас к ещё неблизкой Риге. Сквозь легкую дремоту пытался я вспомнить, когда же я был в ней последний раз…
Нагруженная сегодняшними переживаниями и эмоциями, память с трудом перенесла меня в мою молодость. 70-й год… Наша практика в Риге, город на Даугаве, очаровавшей меня строгим католическим шармом… Наши бесконечные походы по «тихим улочкам Риги»… Мария… Ударом далекого католического колокола отозвалось во мне это далекое, близкое мне когда-то имя… Мария… Вдруг отчётливо всплыли несколько наших волшебных, загадочных встреч, моя сумасшедшая влюбленность в эту поразившую меня тогда красивую женщину чуть цыганского типа, до слез потрясшую меня своим исполнением моего любимого Баха… Мария… 20 лет прошло… Я вспомнил её предсказания о моей будущей жизни. А ведь они, пожалуй, исполнились, с той невозможной точностью, которую она предрекла! Я вспомнил свою жизнь, пролетевшую за эти прошедшие 20 лет, как безостановочный скорый поезд мимо одинокого степного полустанка. Господи милосердный! 20 лет моей жизни…
«Что-то во мне взорвалось, как жакан, / Выйду ли в ночь, у платформы застыну – / Где ты, мой поезд Москва-Абакан? / Взрежь эту жуть, отвези меня к сыну…».
Я ведь действительно рано и крупно начал, сделав своим девизом: «Все или ничего!». Сорвавшись как с цепи, я ещё со студенчества стал швырять себя на черные рифы жизни, бесстрашно выгребая в простершемся передо мной океане свободы… Никакой власти над собой я не признавал по определению. Мне действительно светила яркая и путеводная звезда удачи, освещавшая, словно предуказанный мне путь, по которому я с радостью сумасшедшего паломника, шёл к своей смутной мечте… Была ли высшая цель? Была – максимально приблизить себя к грешному человечеству, чтобы познать его сильные и слабые стороны, взвесив это на весах собственного жизненного опыта, найти своё собственное место в оскоплённом заблуждениями мире, отравленном губительными идеями подавления человека. Да, я играл по-крупному, иногда многим рискуя и даже жертвуя, но не поддающаяся разумному объяснению сила влекла меня по этому заведомо тернистому и, казалось, бесперспективному, с точки зрения обывательской логики, пути…
Ах, Мария… Как ты была проницательна, как пророчески точно ты нарисовала тогда картину моего будущего, похожего на монументальную фреску на тему битвы богов с гигантами! Я и сейчас чувствую себя в состоянии этой борьбы с собственными и общими нескончаемыми заблуждениями хилого и своевольного человеческого ума, частью этой бесплодной и вечной борьбы дольнего и горнего начал…
Что приносило мне утешение? Деньги я никогда не ценил, хотя и имел их много. Только душевная человеческая тонкость, ищущий широкий ум и харизма, как раз то, что крайне редко встречаешь в человеке, опутанном ядовитой паутиной примитивного эгоизма, загнанного в него примитивным социумом или ещё более примитивным государством… Понятно, друзей среди мужеского пола у меня не было, и не могло быть по определению (кроме одного, погибшего, в котором я был уверен, как в себе). Я искал эти редкие качества в женщинах (в ком же ещё!), но и здесь я не был так удачлив, как хотел бы. Встречи с ними были спонтанны до алогизма, притом, что я легко обманывался (и готов был обманываться!) на их счёт… Две-три из десятка встреченных, возможно, отвечали моим критериям, но даже с ними не сложилось… Да и могло ли сложиться, с такой разницей потенциалов!
Мало-помалу, перекатывая в голове подобные мысли, по оживившемуся движению я понял, что мы уже на дальних подступах к Риге…
Саласпилс
Это страшное место на кровавой карте изощренной человеческой жестокости всегда угнетало меня своим нахождением недалеко от, казалось бы, такой тихой и романтичной Риги. Вот, подумалось мне, ещё одно доказательство крайней ущербности человеческого рода, несмываемый временем знак общей вины, павшей на всех нас без исключения. Могли ли мы, наше государство СССР, не допустить этого? Этот вопрос до сих пор остаётся для меня открытым… Я принял решение не заезжать на этот скорбный мемориал, где фашистами проводились страшные опыты над детьми: у меня в памяти еще горел образ брошенного собственной матерью, одинокого, запертого мальчишки из Красногородского детдома, свежи были и жуткие воспоминания о расстрельном рве в латгальской деревеньке Аудрини, и адские видения Керченских катакомб, кошмарившие меня все эти 10 лет… В конце 80-х я написал несколько больших работ на эту тяжелую тему, и боль от соприкосновения с этим ужасом была слишком свежа.
Наконец дорога вывела нас на берег Даугавы, от неё повеяло отрезвляющей свежестью – до Риги оставалось всего ничего… Старинный город в устье Даугавы встретил нас косыми лучами тёплого июльского вечера. Что я чувствовал, впервые въезжая на своей машине некогда слишком знакомый город, где много лет назад я испытал потрясение первой влюбленности, обрушившей на меня божественную музыку Баха… Я бы, наверное, затруднился ответить. Но одно было несомненно: внутри у меня переключился невидимый рычажок, и время побежало по другому руслу…
Наталья, близкий мне человек, вышла из долгого забытья, навалившегося на неё в середине монотонного пути от Резекне. В одном из маркетов на въезде в город мы купили большой рижский торт – нам предстояло увидеть добрых друзей, Людмилу и Петра Межиньш, замечательных рижских поэтов, и не менее замечательную и дружную супружескую пару.
Вот и старинный дом на небольшой и незаметной улице Волгунтес, в центре старого города, где живут наши друзья. Они встречают нас на пороге своей небольшой уютной квартиры, мы пожимаем друг другу руки, я представляю им Наталью. Добрые улыбки светятся на их лицах. Петя Межиньш, чистокровный латыш, прекрасный русскоязычный поэт, классический интеллигент, невысокого роста, с приятным лицом – внебрачный сын первого президента Латвии – вместе со своей женой Людмилой, урожденной псковитянкой, помимо того, что были идеальной семейной парой, являлись неким символом всей русскоязычной поэзии в Латвии, издателями альманаха и большой серии малоформатных изданий поэтов, пишущих на русском языке. Их подвижничество в условиях нарастающей враждебности ко всему русскому, являлось настоящим гражданским подвигом. Впрочем, настоящая поэзия, как и всякое гуманистическое искусство в целом работает «поверх барьеров» и всяческих ограничений, объединяя людей, способных к любви и восприятию прекрасного. Это трюизм.
Дав нам отдохнуть после утомительного пути, ближе к ночи наши друзья устроили небольшую дружескую пирушку по случаю нашего приезда. Разговоры затянулись далеко за полночь, на душе было легко и радостно от встречи с единомышленниками и прекрасными людьми. Ребята предложили нам встретиться с их друзьями и нашими коллегами, художниками Мариной и Леней Максутовыми, выпускниками Рижской Академии Художеств, и взялись организовать нашу встречу. Я поделился своей идеей провести в Риге персональную выставку «Се, сын Твой…». Она имела весной этого года большой успех в Питере, собрав прекрасную прессу, включая телевидение и радио, и я задумал показать её в Риге. Ребята посоветовали мне встретиться с Раймондсом Паулсом, который был недавно назначен министром культуры, тем более что само министерство расположено на той же улице Волгунтес.
И вот мы с Натальей в уютном, старинном, напоминающем кают-компанию старинного фрегата, кабинете министра культуры Латвии. Раймондс Паулс, как всегда, импозантный, встаёт нам навстречу. Мы представляемся. Услышав громкую, узнаваемую во всем культурном мире фамилию Натальи, он галантно склоняется и со словами: «О… Какие люди» целует ей руку. Сразу подкупает доступность министра и его демократизм. Никакой напыщенности и традиционной совковой псевдомногозначительности, столь знакомой мне по Ленинграду-Петербургу. В его вопросах и готовности содействовать реализации моей идеи сквозит доброжелательность и деловая заинтересованность. Оценив трагическую тематику моих работ, он предложил мне посмотреть для моей экспозиции две площадки на выбор: монументальную церковь святого Петра, самое высокое сооружение в Риге, или коммерческий выставочный центр в центре Города, на одной из центральных улиц.
Глядя на большого музыканта и располагающего к себе человека, сразу услышавшего меня, я вспомнил, с каким неимоверным трудом я пробивал зимой 1990 года эту же выставку в родном Питере, как сопротивлялось её организации и проведению напуганное до кишок тупое чиновничество от культуры, не зная, как поступить в ситуации неминуемого крушения господствующей репрессивной идеологии, которой они ревностно служили. Показав в своих монументальных циклах человека, которого хотели сделать послушным рабом пустой и выхолощенный идеи, умертвив в нем все живое и превратив в манекеноподобное управляемое существо, в предверии краха опустошенной Империи, я навлёк на себя последнюю волну бессильного гнева всех служак и подхалимов прежней рассыпающейся власти, всего перепуганного чиновничьего отребья, вскоре принявшегося раболепно служить уже новым хозяевам жизни и государства. Мой телефон был на прослушке, искусствоведа, написавшего о моем творчестве, вызывали в Большой дом… Но они просчитались. Люди, желавшие знать правду и узнать себя в моих работах, были на моей стороне, о чем говорили их искренние и честные отклики и пожелания, поддержавшие меня в тот критический момент современной Русской истории…
Рижские художники Марина и Лёня Максутовы оказались замечательными ребятами. Встретившись в стенах рижской Академии Художеств, они создали прочный семейный и творческий союз, который должен был быть долгим и счастливым… Мы познакомились с ними в их доме, расположенном в новых кварталах за Даугавой. Лёня, будучи уроженцем Астрахани, рано стал одним из наиболее ярких и узнаваемых рижских художников. Его работы были известны в Москве и за пределами Латвии. Его выразительная, насыщенная сложной символикой, концептуальная графика очень понравилась нам с Натальей. Молодой, блестяще образованный, импульсивный, он артистично владел многими графическими и живописными техниками и создавал сложные и интересные, философски нагруженные композиции, которые охотно приобретали западные коллекционеры. Мы провели у них несколько часов, чувствуя себя отменно в гостеприимной и родной нам обстановке, где все дышало творчеством и вдохновением. Лёня делился своими планами на будущее, собирался в Москву, куда его впервые пригласили в качестве художника-сценографа для работы над фильмом… К великому сожалению, через год после нашего знакомства в Риге, он трагически погиб во время пожара в двух вагонах скорого поезда Рига-Москва… Я узнал об этой потрясшей меня трагедии от своего друга-журналиста местной газеты в Красногородском, будучи у себя в Псковской деревне. Так случилось, что они с Леней нагрянули ко мне проездом в Михайловское, когда меня не было (я куда-то выехал). Лёня оставил в дверях моей избы записку следующего содержания: «Мой, друг мы вас навестили, но к сожалению, не застали. Лёня Максутов». Так и не состоялась наша желанная встреча у меня на Псковщине… Я храню эту записку все годы как память о Лене, истинном художнике и прекрасном душевном парне. Вечная память тебе, мой друг по крови и нашему общему ремеслу.
А тогда, поздним июльским вечером, мы с Натальей простились с нашими друзьями, надеясь на новые встречи в будущем…
Как сложилась судьба Марины, овдовевшей в 26 лет, мне неизвестно. Связь наша оборвалась. Государственная граница разделила две страны, нашу Россию и их Латвию, но возможно ли разделить границами жаждущие общения человеческие сердца?
Аве, Мария. Отъезд
Проснувшись довольно поздно и лёжа на полу в крошечной комнатке в квартире Межиньшей, мы с Натальей перекатывали в голове вчерашние впечатления – две такие яркие встречи. Сколько сказано важных и не пустых слов, сколько выражено мыслей, озвучено надежд и откровений! Все это должно было найти своё место в сокровенных уголках нашей благодарной памяти. Поэты… Композиторы… Художники… Не чая увидеть кого-либо из своих коллег, мы неожиданно оказались в эпицентре живой, бьющей ключом художественной жизни почти европейского города Риги. Естественно, это ошеломило нас, приехавших из своих деревенских берлог… Я посмотрел на Наталью… Её выразительное помолодевшее лицо излучало тихий свет удовлетворения… Мы чувствовали, что следует притормозить, и, сделав себе передышку, просто побродить по городу. Позавтракав с Людмилой (Петя уехал по делам), мы решили по отдельности посмотреть на город. Наталья захотела заглянуть в пару рижских магазинов.
Договорившись встретиться у Межиньшей, мы вышли на улицу. День выдался серебристо-туманным, тёплым, задумчивым. Бледно-голубое балтийское небо дышало легкой влажной прохладой. Старинные дома стояли, как выразительная декорация какого-то давно недосмотренного спектакля… Я пытался вспомнить, о чем он. Как если бы некая затянувшаяся мучительная история не получила нужной развязки… Не спеша, чувствуя себя незаметным статистом в этой давней истории, шёл по влажному тротуару без всякой цели, наугад… Вокруг меня сновали по-летнему одетые рижане, мужчины и женщины, у некоторых на лице была видна печать забот, кто-то выглядел абсолютно беспечным, особенно женщины. Их легкие нарядные платья делали их похожими, на нежной расцветки бабочек… Как же приятно раствориться в чужом незнакомом городе, благоухающим, пахнущим нежными ароматами чужой незнакомой жизни…
Чужой?.. Незнакомой?.. Неужели настолько незнакомой?.. Внезапно мои мысли поколебало легкое цоканье, почти сразу смахнувшее мою задумчивость. Господи… Что это? Что со мной?! И, словно холодная игла вошла мне под сердце. В моем расслабленном мозгу неожиданно всплыли, отчётливо прозвучали кем-то давно сказанные слова: «Разве вы не провожаете меня домой?».
Мария… Мария… Вот что это такое… Я осмотрелся: недалеко от меня по другой стороне тротуара, цокая высокими каблуками враскачку шла невысокая и стройная молодая женщина… Роскошные светлые волосы красиво падали на её узкие плечи… Аромат легких духов фирмы «Дзинтарс» легким шлейфом достигал моих ноздрей. Мария… Вот что, оказывается, до сих пор прячется во мне, на давнем, позабытом невесть где, запылённом зеркале моего подсознания… Мария… Как же я мог? Как мог позволить себе забыть это имя? Заглушить его звук в своём сердце?..
Легкая испарина окутала мой лоб. К лицу словно поднесли вату, смоченную нашатырем… И вдруг меня сразила невозможная и дерзкая мысль: «Неужели она ещё живёт в этом городе, возможно, также ходит по этим улицам? Неужели это возможно? Ведь 20 лет прошло?».
Ноги сами незаметно привели меня к Ратушной площади… Господи, подумалось мне… Как такое возможно? Ноги все ещё помнят… Ноги… Помнят!!! А я, получается, забыл… Негромко звякнули колокола. Это Домской собор окликал моё прошлое… Я стоял посреди площади. И голова моя кружилась от этого грустно-покаянного звона… Мария… Вон там, на той стороне площади, 20 лет назад я однажды увидел её идущей… А потом… Потом мы шли вместе, о чем-то болтая… Зашли вон в то кафе… Где же оно… То кафе… Похоже, на месте… «Три брата». Да, именно так оно и называлось… Я словно накачанный ртутью, подошёл к этому кафе… Все ещё не доверяя себе, зашёл… Оно было почти пустым, что не удивило меня… Вон и тот столик! На том же самом месте… Медленно, ох, как медленно, подошёл к нему… Сел… Не сразу, но ко мне подошёл официант: «Чем могу служить?». Я был как в полусне, очень похоже на наркоз… «Чашку капучино», – беззвучно прошептал я и посмотрел в окно…
Не помню, как я вернулся в наше временное пристанище. Наталья уже ждала меня. Оказывается, её хватило ненадолго. На один всего лишь магазин, и то музыкальный, грампластинок… И она показала мне своё приобретение. Это была красиво изданная пластинка Баха. Вариации и токкаты. В исполнении Глена Гульда…
…Мы ехали уже второй час, когда стало резко темнеть, дальние огни фар выхватывали из мрака серую однообразную ленту шоссе и редкие придорожные знаки. Мы покинули Ригу внезапно, неожиданно для самих себя и наших милых друзей Межиньшей… Мы оба с Натальей почувствовали, что мы не можем более оставаться… Почему? Объяснения не находилось. Просто не можем. И все… Словно в песочных часах просыпался песок. Или вдруг остановились часы, а ты и не заметил, сколько прошло времени. Монотонно рокотал мотор. Со свистом, нетерпеливо разрывая ночной мрак, наш «Москвич» увозил нас домой, в наши деревенские пристанища… Держа руль левой рукой, правую я положил на ладонь Натальи… Она была мягкой и доверчиво тёплой.
1970. Мой Дагестан
Посвящаю моему институтскому другу,
художнику Александру Рычкову-Галактионову
Середина лета 1970 года была для нас с другом началом интересного и непростого путешествия по Дагестану. Мой заинтересованный читатель помнит о моей любви к Кавказу, помнит мои воспоминания о странствиях по Абхазии, Грузии и Осетии, состоявшиеся ещё по окончании первого курса Академии. Побывать в Дагестане было моей давней мечтой. В решающей степени на неё повлияла поэзия Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и других дагестанских поэтов, которых я открыл для себя ещё на первом курсе института. Они разбудили во мне жгучий интерес к «стране гор и горе языков». Ну, и, безусловно, Лермонтов: «В полдневный жар в долине Дагестана…». И когда я дошёл до «точки кипения», я подбил на эту поездку моего друга Сашку. И вот, взяв билеты на поезд до Краснодара, облачившись по-походному, с рюкзаками за плечами и папками наперевес, мы начали наше бесстрашное и в чем-то авантюрное предприятие. План был такой: доехать до Махачкалы (город Махача), далее – отправиться высоко в горы, в Хунзах, затем на малую родину Расула Гамзатова и легендарного вождя ожесточенной борьбы за независимость Дагестана в 19-м веке имама Шамиля, и дальше – по обстановке.