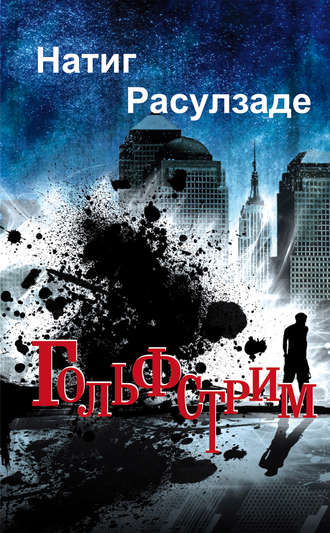
Натиг Расулзаде
Гольфстрим
– Ну, теперь твоя очередь, ты же ничего не боишься, докажи.
– Да он боится, посмотри, побледнел даже, – тут же охотно ввязался второй мальчик.
– О! Он трус, трус! – подхватил третий.
Да, моя необщительность и склонность к одиночеству давали свои плоды, меня не очень любили и жаловали. Но ситуация была безнадежной, теперь, как бы я ни трусил, надо было доказывать, что я могу не хуже двух первых мальчишек полезть на крышу и плюнуть сверху на весь мир. Во мне все тряслось, я на самом деле видимо был бледен, потому что многие со злорадными усмешками следили за моей реакцией. Мелькнула мысль броситься на обидчиков с кулаками, но это не было решением проблемы, и я в их глазах, в глазах мальчиков всего класса мог оставаться трусом, и с этим потом надо было жить до конца школы, но главное, что я мог упасть в своих глазах, я бы потерял уважение к себе, и это мучило бы меня долгое время, как ни старайся впоследствии наверстать упущенное и неоднократно доказывать себе, что ты нормальный мальчик без всяких комплексов. Все эти мысли, если и не так конкретно, зато моментально пронеслись в голове у меня, скорее я это почувствовал и мне по-настоящему стало страшно, когда я осознал и предугадал последствия своего действия, точнее – бездействия. Я на ватных ногах, под смешки и подзадоривания одноклассников, подошел к лестнице, до которой еще надо было допрыгнуть, чтобы ухватиться за нижнюю поперечную планку, и помирая со страху, схватившись за холодную железку… тут как раз пошел дождь, мелкий противный дождичек… подтянулся, стал ногами на нижнюю поперечину и стал медленно ползти на крышу, стараясь не смотреть вниз, где ребята вовсю веселились, видя мою нерешительность и страх.
– Побыстрее! – крикнул снизу один из них, – Перемена кончается.
– Главное – не обосрись!
– Ха-ха-ха!
Я постарался лезть быстрее, сердце мое бешено колотилось, готовое выскочить изо рта, я не мог перевести дыхания, и, наконец, под усиливающимся дождем достиг крыши, переполз на неё, покрытую киром, безбожно пачкая рубашку и брюки, и некоторое время оставался лежать, переводя дыхание и слушая, как сердце колотится о крышу школы. Теперь надо было слезать обратно, и это оказалось еще труднее, потому что я по-прежнему старался не смотреть вниз, но и без того у меня кружилась голова, а на крыше меня вдруг стошнило, но очень удачно – прямо на редеющую кучку оставшихся внизу «болельщиков», которые с ругательствами брызнули в разные стороны. Во мне даже не успело проснуться злорадное чувство, мне было не до того, предстояло слезать. Я, стоя на крыше под дождем, слышал, как прозвенел звонок на урок, видел, как мальчики разбежались. Я стоял, дрожал от страха и не знал, что делать. Спуститься одному вниз мне казалось самоубийством. Одним словом, был страшный скандал, вышла из своего кабинета директриса, грозя мне всякими страшными карами, во что я не мог никак вникнуть, и наивно требуя, чтобы я «Сейчас же спустился вниз и убирался из школы за родителями!». Наконец, догадавшись, что я лучше останусь жить на крыше, чем спущусь, ко мне наверх полез учитель физкультуры и помог мне, чуть не терявшему сознание, спуститься. В очередной раз меня выгоняли из школы, но и в очередной раз не выгнали. А железную лестницу вскоре укоротили, чтобы без приставной лестницы, хранившейся в мастерской учителя по труду, на нее никто бы не мог забраться.
Позже, в тот же день, на следующей перемене, когда я, горя желанием отомстить, устроил погоню за своими врагами, спровоцировавшими меня полезть на крышу, я, настигая одного из мальчиков, влетел в железную решетку ограды и неудачно вскинул головой, так что, острие решетки впилось мне прямо в темя и кровь хлынула из головы так, что дети в школьном дворе закричали от ужаса и кто-то более догадливый бросился за школьным врачом. В кабинете врача, куда те же одноклассники помогли мне добраться, я потерял сознание. Да, этот день был полон событий. Меня привели в чувство, сделали укол, перевязали голову, дали попить приторно сладкого чаю и я, отлежавшись и немного придя в себя, отправился домой. Мама, хоть и привыкла к тому, что я не раз проливал кровь на поле брани неизвестно за что, на этот раз чуть не лишилась дара речи, увидев меня страшно бледного с головой перевязанной пропитавшимся кровью бинтом.
– Не пугайся, – только и смог сказать я. – Мы играли…
Она уложила меня в постель и вызвала врача. Тогда ни у кого на нашей улице не было домашнего телефона и за врачом в поликлинику сбегал один из соседей. Вскоре я набрался сил и моя мальчишеская жизнь продолжалась, по-прежнему безалаберная и в меру безоблачная, если не считать уроков в школе, в необходимость которых я уже тогда не очень верил.
С годами я все чаще думаю о смерти, стараюсь осмыслить её нелепость и уродливость, стараюсь придать ей, сколько возможно форму разумного, продуманного в человеческой жизни финала, продуманного мудрым Всевышним, но снова и снова понимаю, что это невозможно – смерть нелепа и уродлива, и все мои близкие, любимые мной люди, мои друзья и родные не должны были умирать, ведь с ними умирали частички моей души; но зато в памяти моей они жили все ярче, потому что вспоминал я их с любовью, смерть их опустошала мою душу, но обогащала память. И я, в ком писатель преобладал больше, чем человек, с одной стороны был рад, что память моя о них, незабвенных, становится ярче и острее и пригодится в работе; как врач, наблюдающий агонию близкого человека, делает про себя профессиональные заметки и выводы, позабыв на мгновение, что он прежде всего человек, а потом уже профессионал, так и я, прости Господь грешную душу.
Прервусь… сейчас я пишу эти строки и, несмотря ни на что, снова понимаю: моя жизнь наполнена.
Одно из ярких воспоминаний детства – мотоцикл «Малютка». Сосед слесарь, на горе нам, мальчишкам с нашей улицы и близлежащих улиц (которых мы без особого восторга пускали на свою и как правило их визиты заканчивались дракой), собрал своими золотыми руками мастерового мини мотоцикл и держал его в подвале своего дома, время от времени выводя на улицу и на тротуаре перед домом демонстрируя его возможности. Это была точная копия настоящего мотоцикла: такие же колеса с накаченными покрышками, поменьше только, такой же руль и даже зеркала по обе стороны руля, маленький бак для бензина литра на два, удобное седло-сидение, сверкающие на солнце спицы, одним словом – мечта, но когда мы узнали цену, которую хозяин запрашивал за это чудо, то поняли, что мечта эта для нас недосягаема. Мы жили в рабочем квартале, пролетарии, бедняки, так что, такая игрушка, как мини-мотоцикл «Малютка» (кстати, эта красивая серебристая надпись красовалась на бензобаке мотоцикла выполненная в форме стрелы и вызывала сомнения в авторстве хозяина, все-таки красивый дизайн был не по его части, грубая деревенская скотина, какой там еще дизайн…) оставалась для нас, мальчишек мечтой. А этот садист, вытаскивая из подвала, где он держал нашу мечту, свое творение, будто желая подразнить нас, заводил мотор и несколько минут мотоцикл тарахтел на всю улицу, как пулемет, созывая нас, мальчиков полюбоваться на нашу любимую «малютку». Не знаю, как другие соседские ребята, а я был, в самом деле, влюблен в этот мотоцикл, так что он мне снился по ночам, как раньше девочки, в которых бывал влюблен (с той только разницей, что не уступал ему половину своей подушки) я буквально бредил им. И когда у нас появилась дача, я все еще помня о своей неостывшей мечте, поначалу пенял отцу, что, если он мог купить дачу, то, наверняка, мог бы позволить себе и мотоцикл, но уродливое законодательство одной шестой части суши такие игрушки, как самодельный детский мотоцикл причисляло к предметам роскоши, тогда как дачи трудящимся позволялось покупать, с условием, что дома на этих дачах будут не выше первого этажа. И тут цензура!..
Много раз я себе говорил: нельзя набрасываться на работу, так же как и на женщину, итог будет грустный; их надо брать постепенно, приступом, как крепость, брать лаской, очень медленно и доброжелательно подступаться, сияя улыбкой, так, чтобы и та и другая даже поначалу не поняли, что ты их домогаешься, усыпляя бдительность и можешь ими овладеть. Но, что бы рациональное мышление, разум ни повторяли, неоднократно обжегшись и имея печальный опыт, нетерпеливый мой характер делает по-своему: с неулыбчивым, хмурым лицом, предвидя финал, уже заранее обреченный на фиаско, я набрасываюсь. Часто получаю отпор – с первых же строк работа не идет, с первых же слов женщина замыкается, как закрывающийся лепестками на ночь цветок, уходит в себя, как улитка, но бывает и обратное: постепенно (гораздо дольше, конечно, чем было бы, если б я поступил разумно с самого начала и послушался голоса рассудка) приходится начинать заново, восстанавливая в душе равновесие и любовь, на что уходит много энергии и душевных сил, но со временем все налаживается – работа идет в нужном русле, женщина ложится.
В писательском ремесле для меня главным остается вдохновение, не побоюсь громкого слова (потому, что вдохновение и есть громкое слово, самое громкое из всех громких), главным остается лихорадочное состояние, когда предчувствие э т о г о, что должно произойти и очень скоро, охватывает всего тебя, когда ощущаешь дрожь во всем теле, как неопытный мальчик, взбудораженный весной, внутренне дрожит и боится, подходя к первой своей женщине, когда сердце бьется учащенно и ты знаешь, пока будешь писать оно не избавится от временной тахикардии, но тебе плевать на это и на все на свете, кроме работы и зыбкого ощущения, что сейчас получится, сейчас р о д и т с я. Многолетняя практика показала, что если заставлять себя работать без этого великолепного ощущения, каждый день в одно и то же время выпуская на волю определенное количество строк и – напротив – если бездельничать и плевать в потолок целую неделю и всего один день писать по вдохновению, которое я здесь попытался описать бледными словами (потому что оно в сущности неописуемо, как любовь), то результат будет один и тот же – все равно в итоге вершиной будет то, что написано в тот самый день, лихорадочный, счастливый день – подарок Бога; и семь дней, когда ты заставлял себя работать, заставлял сесть за письменный стол, профессионально настраиваясь на работу, всячески провоцируя себя и вспоминая примеры дисциплинированных великих писателей, (а Бог в это время наблюдал за тобой и посмеивался), ты потратил впустую, потому что эти дни ты мог бы посвятить друзьям, пить и веселиться с ними, или бродить по улицам, думая о смерти, или любить женщину… Но ты потратил это время впустую, заставляя себя работать без вдохновения, без ангела за твоей спиной. Один день, один-единственный день перевесит все остальные.
Журналисты часто меня спрашивают – я заметил: они любят задавать похожие вопросы – как я отношусь к тому, что тиражи книг в нашей стране упали, что мало читающей публики. Как я могу к этому относиться? Я думаю, они хотят разбудить во мне чувство ностальгии по прежним временам, когда мои книги выходили огромными по нынешним меркам тиражами. Но никакого чувства ностальгии именно по этому поводу у меня нет, я трезво смотрю на вещи, было время, когда литература, кино, другие виды искусства для руководства страны с тоталитарным режимом служили в первую очередь средством пропаганды существующего строя; и многие деятели искусства работали на эту пропаганду, отсюда и огромные тиражи (кстати, непомерно низкие гонорары, какими бы большими по сравнению с зарплатой госслужащего они не выглядели; уродливая тиражная политика в стране делала эти гонорары по сравнению с тиражами весьма и весьма низкими), и множество льгот, что предоставлялись писателям и прочим деятелям искусств. Сейчас мы вернулись к нормальному состоянию, в котором изначально находился весь мир: книги писателя покупают – он живет хорошо, не покупают – живет плохо. Одно вызывает сожаление: именно в нашей стране число читателей катастрофически снизилось. Катастрофически и стремительно.
Да, я заболел этой игрушкой, мотоциклом «Малютка». А хозяин этого рукотворного чуда, видя наши горящие взгляды, которыми мы смотрели, ласкали, целовали мотоцикл, позволял нам (будучи навеселе, в хорошем настроение) садиться на седло мотоцикла, браться за руль, чтобы всем телом, всем естеством своим почувствовать, какое это наслаждение. И мы чувствовали всем естеством, но потом становилось еще горше от того, что наслаждение оказалось очень кратковременным. Естественно, большинство мальчиков просило у отцов приобрести этот чудо-мотоцикл, я не был исключением, на нашей улице среди ребят был повальный психоз, плач и стенания по мотоциклу. Но не только на нашей, приходили смотреть на мотоцикл из дальних кварталов, хозяину удалось сделать для своего детища хорошую рекламу именно через нас, мальчиков, но пока найти настоящего покупателя он не мог; многие приходили с отцами или старшими братьями, те приценивались и уходили ни с чем. А однажды, когда я уже донельзя надоел дома родителям своими слезными мольбами, отец как-то ночью, думая, что я сплю, сказал матери:
– Такую цену загнул, чертов сын! Я говорю ему: даже настоящий столько не стоит, а он мне – это же произведение искусства, разве не видите!?
Я слышал только обрывок их разговора, только эти фразы, но сразу же понял, что речь идет о предмете моей мечты, о том, чем я бредил последние несколько недель, сразу догадался, потому что только об этом и думал. Боже, как мне хотелось приобрести, вернее, чтобы отец приобрел мне эту потрясающую игрушку. Обычно, мы, подростки сами в те годы мастерили себе игрушки – самокаты на подшипниках, доски на подшипниках, колеса, что катили на проволочной держалке и многое другое; и если б кто купил детский мотоцикл, или даже велосипед, это был бы сногсшибательный скачок от примитивных, самодельных наших игрушек до умопомрачительно роскошной мечты. В магазинах игрушек выбор был небольшой – куклы, игрушечные автоматы, пистолеты – раз-два и обчелся. Однако, мотоцикл «Малютка», когда слесарь – народный умелец собрал его и выставил на продажу, затмил все, о чем мы до сих пор мечтали, что мы желали. Мы узнали все о нем, он развивал скорость до тридцати километров в час, примерно на столько же хватало горючего в его баке, все необходимые детали слесарь вытачивал своими руками и тайком протаскивал через проходную завода, на котором работал. Риск был большой, в те годы за такое могли привлечь к уголовной ответственности по статье «расхищение государственного имущества», нам, мальчишкам это было неведомо, и мы очень злились на него за то, что не хотел сбавить цену. Но в то же время каждый из нас в душе боялся, что мотоцикл купит не он, а другой, и тогда вряд ли придется еще хоть раз посидеть на его седле – мальчишки народ жестокий и за свое имущество держатся крепко. Впоследствии слесарю все же удалось найти покупателя и мотоцикл «Малютка» благополучно покинул нашу улицу, наш квартал, купил его кто-то для сына и, говорят, увез на дачу, подальше от завистливых глаз. И постепенно, как и все недосягаемое для нас в жизни мы, мальчики забыли его, забыли свои несбывшиеся мечты и надежды, и мне пока я вырос, приходилось еще не раз терпеть подобные поражения, когда до своего страстного желания, до мечты нельзя было дотянуться рукой и оно оставалось втуне. Это и понятно – детские желания часто превышают возможности взрослых, и одно за другим эти нереализованные желания оставляют горький осадок в душе ребенка, и ничего нет удивительного, что дети из бедных семей в большинстве своем вырастают людьми с комплексами, со стремлением вернуть себе радости и удовольствия, что недодали им взрослые в ранние годы жизни, вырастают порой – с преступными наклонностями вследствие подавленных в детские годы желаний.
Искусство, литература – это маленький домик из одеяла, который создают дети, играя; домик, куда прячется ребенок, в своем воображение строя свой мир; выросший ребенок, продолжая игру, находит в сотворенном его фантазией мире возможность спрятаться, убежать от мира реального, жестокого, несправедливого, чьи правила он не может принять. Литература дает такую возможность. Но уходя от реального мира, писатель все-таки на него опирается, его берет отправной точкой в своих произведениях, забирает его неприемлемые для себя законы и атрибуты в свое творчество; ему хочется создать свой добрый, уютный мир, свое гнездышко из одеяла-домика, свой мир справедливости, но в то же время он понимает, что должен отображать реальный мир со всем его каждодневным уродством и волшебством, превосходящим любую писательскую фантазию. И часто из реального мира берется столько интересного, потрясающего, жестокого, доброго, прекрасного и жуткого и так действенно, талантливо отображается, что книги автора становятся бестселлерами и ведут его по пути в роскошную жизнь, где ему уже нет необходимости прятаться в домик из одеяла. Бывает и иначе, ведь писательство очень индивидуально, и писатели не похожи друг на друга, очень отличаются друг от друга, и бывает, что не умея делать популярными свои книги, писатель все еще прячется от жизни в своем детском домике из одеяла, успокаивая себя мыслью, что неблагодарный современный читатель еще не дорос до его произведений.
Мой приход в литературу (некоторые журналисты впоследствии утверждали, что я ворвался в литературу, но мне не хотелось бы врываться в дом, где царили такие гении как Шекспир, Физули, Достоевский, Диккенс и многие другие великие Мастера; одного недоумевающего их взгляда на меня было бы достаточно, чтобы я попятился и убежал, пристыженный) был не могу сказать, чтобы очень уж ровный, без проблем, поначалу я чуть не стал инженером-строителем; еще бы года два и я бы получил диплом, такой необходимый и такой престижный в то время. Но я вовремя остановился. Во- первых, уже с юношеских лет я стал пописывать в газетах разные недозрелые статейки и очерки, возомнив себя журналистом и чуть ли не писателем, и еще: за три года, что я провел в стенах Политехнического, попав туда по воле случая и уж никак не по призванию, я успел возненавидеть всей душой чертежи и все технические предметы, которые как мне казалось, притупляли моё буйное воображение, так необходимое Литературе, которая заждалась меня, отчаялась уже меня обрести и заранее скорбела по своему непутевому сыну. Позднее я понял, что был неправ насчет технических предметов, я стал понимать какая высокая поэзия таится в цифрах и вдохновенных поисках точного раскрытия сложнейших формул. Тогда я этого не понимал, и наблюдал жизнь в отрыве от ненужной мне учебы. Но ничто не пропадает зря, если уметь видеть и жить сегодняшним днем – Политех многому меня научил, были рядом со мной интереснейшие персонажи, происходили удивительные события; многое потом фрагментарно или целиком, обратившись в эпизоды из разных произведений и в полноценных литературных героев, вошли в мои книги; а интересные события по горячим следам я тут же записывал в свой «писательский» блокнот, рассчитывая, что когда-нибудь эти записи мне пригодятся. Вообще, очень долго я не расставался с моими рабочими блокнотами, которых за десятилетия скопилось тьма-тьмущая, и в которые, надо сказать, я очень редко заглядывал, оставляя на потом, когда не смогу довольствоваться иссякающими, похудевшими свежими идеями, только что пришедшими в голову и тут же коварно ускользнувшими, подразнив. Но, слава Богу, приходили и часто даже долго гостили. Не жалуюсь. А старые записи время от времени, когда наступали паузы и приходило время плевать в потолок, я вытаскивал на свет божий и перелистывал, просматривал и с удовольствием убеждался, что почти ничто из записанного не устарело, что это не сиюминутные записки репортера, привязанные к своему времени, а события, случаи, происшествия и люди, о которых всегда интересно писать.
Из сорока человек абитуриентов, поступавших в Литературный институт в один год со мной, человек тридцать были гениями. Они после обильных шумных возлияний в общежитие ловили друг друга в коридорах и угрожающе вопрошали:
– А ты знаешь, что я – гений? Нет? Ну, слушай!
И после этих слов следовали километровые стихи.
Я стихов к тому времени не писал, уже полностью вверил себя прозе, и потому стихи молодых начинающих гениев слушал с легким недоумением, постепенно вызывавшим в душе моей темный ужас, а на финальный вопрос гения:
– Ну, как?
Честно отвечал:
– Дерьмо.
Порой заканчивалось дракой, но мне ли к дракам привыкать? Но однажды, совершенно неожиданно начинающий гений отреагировал на мой ответ добродушным смешком.
– Я знаю, – сказал он, и прибавил. – Но это не мешает мне быть гением, не правда ли, старичок?
Я задумался над его ответом.
Может ли человек достоверно знать, что он гений? Наверное, может. А может человек открыто называть себя гением? Наверное, может. Ведь Пушкин говоря от лица Моцарта, признающего, что он гений, считал в первую очередь гением себя, таким же, как Моцарт, как Бомарше и другие великие творцы. Можно откровенно называть себя гением, не скромничая, ведь скромность – удел бездарей, и творческая личность, а тем более – гений не может быть скромным, это нонсенс; правда, живя среди людей и умея преподнести себя должным образом, он с виду может производить впечатление очень скромного человека, чтобы вызывать умиление у обывателей, своих почитателей, но только троньте его за живое, только сравните его с кем-то, кто на ваш взгляд талантливее, ого-го!.. Лучше отойдите на пять шагов… Он – единственный и неповторимый. Но в работе, когда мучают сомнения, когда разрываешься в поисках точного слова, когда бьет лихорадка творчества, когда тревожно на душе и боишься приступать к новой работе, к новому произведению, вот именно тогда неуверенность, зыбкость, эфемерность, воздушность, неуловимость того, чем ты занимаешься, убивают в тебе твердость духа, и ты просто должен работать, потому что, чтобы что-то сделать надо начать это делать…
Здесь я хочу рассказать об одном эпизоде, точнее о ряде повторяющихся эпизодов. Время от времени я встречал на улицах одного из моих дальних родственников, он был примерно лет на десять младше меня, и когда мы встречались, считал своим долгом плакаться мне в жилетку.
– Вот, – говорил он, – мне уже двадцать, а я до сих пор не смог поступить в институт…
Я не мог понять, что он хотел от меня. Совета? Участия? Чтобы я успокоил его мудрыми изречениями из классиков?
В следующий раз он говорил:
– Мне уже двадцать пять, а я так и не нашел себя в жизни, а? Это же ужасно.
Потом:
– Ты представляешь, мне стукнуло тридцать три, а я до сих пор…
И так далее…
Он ничем не занимался, не учился, не работал, не увлекался, не женился, не предпринимал никаких действий, чтобы поменять свою ленивую, однообразную жизнь, и не сидеть на шее у матери.
Я как-то сказал ему:
– Если хочешь что-то делать, надо начать это делать.
Неоспоримая истина, не я её выдумал. Но на него, видимо, мои слова нимало не подействовали. Он все так же слонялся по улицам и, встречая меня, все так же жаловался на свою жизнь, но палец о палец не желал ударить, чтобы что-то изменить в ней. Я стал избегать его.
В тридцать семь лет он умер от менингита, и естественно, уже не встречался мне на улицах, и я некоторое время вспоминал его с щемящим чувством, сжимавшим мне сердце. Нечто, не совсем для меня ясное, отдаленно напоминавшее угрызение совести, скребло мне сердце, и я думал, что, наверное, я мог бы ему помочь чем-то более существенным, чем напоминание назидательных постулатов, видно воспринимавшееся им, как сотрясание воздуха – бу-бу-бу… Теперь, вспоминая его, я прихожу к мысли, что может и он тоже, как и многие поучительные моменты в моей жизни, послужил мне примером для не подражания и невольно дал толчок к тому, чтобы я всем сердцем, всем существом своим проникся этой простой истиной – если что-то хочешь сделать, начни это делать.
…И вот ты уже делаешь, работаешь, как проклятый, и уже забываешь всю свою нескромность, всю свою гениальность и только неуверенность и зыбкость, эфемерность и неуловимость довлеют над тобой, и страх, страх охватывает тебя, тебя лихорадит, как голого в снежной ночной степи. «Ну что, – снова и снова назойливо спрашивает нахальный голосок в тебе, – ты и теперь гений?»
Сколько идей погибло во мне, не родившись, сколько идей для кино, для книги, иные спотыкались о скудоумие и трусость чиновников, импотентов от искусства, иные о мои страхи, и в итоге рождались только самые смелые, самые крепкие, самые приспособленные к жизни, рождались, облекаясь в слова, оставались, жили отдельно от меня, но я их не забывал. Я мало думал о читателе. Я сам был читателем.
Как-то в начале девяностых прошлого века, в смутный период безвременья в моем городе, я шел рано утром мимо старого книжного пассажа, где, помнится, буквально несколько лет назад выстаивал большие ночные очереди, чтобы купить книжные новинки; и вот, иду я мимо книжных магазинов и вижу разбросанные по улице книги. Я машинально, не нагибаясь, стал читать на корешках и обложках: Ромен Роллан, Лев Толстой, Рэй Бредбери, медицинский справочник, словарь синонимов… Неподалеку дворничиха подметала забытую прохожими улицу.
– Что тут произошло? – спросил я её.
Она удивленно глянула на меня.
– Ничего не произошло.
– А эти книги?.. – я указал на книги под ногами у меня, к которым она уже подбиралась с метлой.
– А, – сказала она. – Тут ремонт начинают. Вот и повыкинули. Здесь, говорят, парикмахерская будет.
– Ясно, ясно, – сказал я. – А можно я кое-что заберу?
– Да на здоровье! – тут же весело отозвалась дворничиха. – Хоть все забирайте. Мне работы меньше будет.
Поднимая с земли книги, я взглянул на распахнувший двери давно знакомый книжный магазин, на пороге которого тоже валялись кучи книг, будто выпустили кишки человеку, распороли живот и все внутренности выпали наружу, на всеобщее обозрение.
В конце концов, мне купили велосипед. Это была компенсация за то, что мотоцикл «Малютка» от меня уплыл, и мои мечты о нем постепенно тлели, угасали, растворялись в буднях, мальчишеских заботах, радостях и тревогах. Велосипед тоже было неплохо, я давно хотел такой, чтобы летом ездить на пляж от нашей дачи, на пляж и обратно. В город я его решил не брать осенью, хотя очень хотелось повыёживаться среди мальчишек, не имеющих велосипеда.
В годы моего детства были очень популярны фильмы Раджа Капура с великолепным музыкальным оформлением, не знаю, какого композитора, да и никто, верно, не помнит, потому что главным был актер и режиссер Радж Капур (теперь я знаю, что на его актерское исполнение огромное влияние оказала школа великого Чаплина, но в то время всем казалось, что игра звезды индийского кино очень самобытна и неповторима, что было верно, несмотря на многое, что было заимствовано им из Чаплинского искусства) он запоминался, был бешено популярен у нас в городе, да и на всем Востоке, фильмы с его участием постоянно шли в кинотеатрах и имели большой успех. Середина прошлого века, разгар социализма, что грозился перейти в коммунизм в огромной стране, граждане которой боялись показаться богатыми; и тут как нельзя кстати пришлось – говоря словами классика марксизма-ленинизма «из всех искусств важнейшее» искусство Раджа Капура, которое подспудно пропагандировало окрашенные в романтические тона бедность и нищету, так что, многие граждане – в особенности молодые – чуть ли не гордились своей бедностью и все поголовно стремились стать бродягами, как герой фильма знаменитого Раджа. В кинотеатрах спекулянты не успевали продавать билеты в три, а то и в пять раз дороже стоимости, каждый сеанс шел с аншлагом, весь город напевал, насвистывал, мурлыкал под нос песни из фильмов, но композитора никто не помнил и не интересовался узнать его имя, и редко кто – может сами местные композиторы и музыканты – возможно, обращали внимание в титрах на имя композитора. А музыка была великолепной, потому что в основе всех песен в фильмах была прекрасная, очень запоминающаяся мелодия. Сейчас не сложно выйти в Интернете на эти старые фильмы и посмотреть имя композитора в титрах, и упомянуть его здесь, но мне хотелось оставить все как есть, все, как было в годы моего детства, когда я тоже, как и все не интересовался узнать, кто же создал такие чудесные песни.
Как раз на утреннем сеансе какого-то фильма с Раджем Капуром, когда зал кинотеатра был переполнен школьниками, убежавшими с уроков, директора и учителя школ устроили облаву, и мне этот случай запомнился. Я учился в шестом классе, мне было тринадцать лет.
Много лет назад я написал сценарий для одного нашего режиссера. Звали этого режиссера Шахмар Алекперов. Он был талантливым режиссером и актером. Меня всегда привлекала тема одиночества, одинокой старости, я старался представить себе, каково должно быть в жизни одиноким старикам. И написал сценарий о таком одиноком старике, живущем в доме престарелых, у него никого нет, но старик хотя лет ему много не чувствует себя старым. Он молод душой, ему порой хочется отколоть рискованные шуточки, которые с негодованием и непониманием принимаются со стороны контингента дома, ему скучно со стариками. И вот он встречает молодых людей, которые помогают ему сбежать (точнее: просто незаконно забирают его, но старику, авантюристу по натуре, это кажется бегством) из опостылевшего ему интерната для стариков; старик несказанно рад, он очень скоро привязывается к молодым людям, но они оказываются ворами, мошенниками – две девицы легкого поведения и парень-сутенер. Они ищут наживы во всем и используют старика в своих целях, хотя по-своему тоже привязываются к нему. Старик, поняв, что не сможет наставить на праведный путь этих молодых людей, которых он по-настоящему, как детей своих полюбил, кончает с собой. Сценарий получился, по жанру это была трагикомедия, любимый мой жанр в кино, в нем было множество интересных, смешных, забавных деталей, и Шахмару он очень понравился. Был в сценарии такой эпизод: старик выходит из украденной машины, чтобы помочиться, а парень и девушки его торопят, и старик начинает бранить свой член:
– Давай заканчивай, – говорит он пенису. – Видишь, люди ждут, совсем ты женщин не уважаешь.
Старик по характеру любит ёрничать, порой строить из себя шута, но внутренне он глубоко порядочный человек, желающий помочь молодым людям стать на верный путь, вернуться к нормальной жизни. Таких эпизодов было в сценарии много, но Шахмар попросил меня убрать этот. Однако, мне удалось убедить его, что в нашем кино, где многое делается с оглядкой на цензуру, где шакалы-чиновники от кинематографа режут интересные материалы, как говорится, по живому, подобных эпизодов еще не было.






