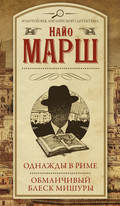Найо Марш
Чернее черного. Весы Фемиды
– Так он, значит, против обычных предосторожностей?
– Он всегда был упрям как осел. В колледже говорили, что если тебе требуется, чтобы старина Громобой сделал что-то, попроси его ни в коем случае этого не делать. К тому же он принадлежит к разряду пренеприятных людей, которые решительно ничего не боятся. И чертовски заносчив к тому же. Разумеется, он против. Он не желает, чтобы его защищали. Он желает изображать Гарун-аль-Рашида и слоняться по Лондону, оставаясь таким же неприметным, как угольный ящик в раю.
– Да, – рассудительно проговорил Фокс, – позиция не очень умная. Этот джентльмен – мишень номер один для любого охотника до покушений.
– Зануда – вот он кто. Конечно, вы правы. Каждый раз, как проталкивает очередной кусок своего промышленного законодательства, он обращается в мишень для какого-нибудь экстремиста. Черт подери, Братец Лис, да всего несколько дней назад, когда он надумал отправиться на Мартинику с широко разрекламированным визитом, какой-то прохвост выпалил в него в упор. Промазал и сам застрелился. Арестовывать было некого. А Громобой, радостно сверкая глазами и зубами, покатил дальше, стоя на сиденье автомобиля, выставив напоказ свои шесть футов и пять дюймов, так что его эскорту каждый дюйм дороги показался милей.
– Похоже, он малый что надо.
– Тут я с вами спорить не стану.
– Совсем я запутался с этими зарождающимися нациями, – признался Фокс.
– Не вы один.
– Я хотел сказать – вот эта Нгомбвана. Что она собой представляет? Вроде бы независимая республика, но при этом как бы член Британского Содружества, однако если так, то почему она держит в Лондоне посла, а не полномочного представителя?
– Вот именно, почему? Главным образом благодаря маневрам моего закадычного друга Громобоя. Они все еще состоят в Содружестве. Более или менее. То есть, с одной стороны, состоят, а с другой – вроде бы и нет. Все формальности соблюдены, но при этом у них полная независимость. Все пышки и ни единой шишки. Потому-то он и настоял, чтобы его представитель в Лондоне именовался послом и жил в таких апартаментах, что и великой державе было бы незазорно. Это исключительно его заслуга, старины Громобоя.
– А что думают о визите его люди? Здешние, из посольства. Посол и все прочие.
– Перепуганы до смерти, но при этом твердят, что с президентом не поспоришь, – с таким же успехом можно уговаривать ветер, чтобы не дул. Он вбил себе в голову – еще в те времена, когда учился здесь и потом практиковал в Лондоне в качестве барристера, – что раз Великобритания не имеет, сравнительно с прочими странами, серьезной истории политических покушений, значит, и в будущем их опасаться не приходится. И должен сказать, идея эта на свой безумный манер довольно трогательна.
– С другой стороны, он все равно не сможет помешать Специальной службе делать свое дело. Во всяком случае, вне посольства.
– Он может причинить им массу неудобств.
– Ну так какова процедура, сэр? Вы дожидаетесь его прибытия и падаете ему в ножки прямо в аэропорту?
– Ничуть. Я вылетаю в его распроклятую республику завтра на рассвете, а вы тут в одиночку разгребаете дело Дагенхэма.
– Ну, спасибо. Привалило-таки счастье, – пробурчал Фокс.
– Так что я, пожалуй, пойду укладываться.
– Не забудьте взять старый школьный галстук.
– До ответа на эту глупую шутку я не снизойду. – Уже у двери Аллейн остановился. – Забыл спросить, – спохватился он. – Вам не приходилось встречаться с человеком по имени Сэм Уипплстоун? Из МИДа.
– Я в этих кругах не вращаюсь. А что?
– Он считался своего рода экспертом по Нгомбване. Кажется, недавно ушел на покой. Милый такой человек. Когда вернусь, надо будет пригласить его пообедать.
– Вы думаете, он мог сохранить какое-то влияние?
– Вряд ли можно ожидать, что он бухнется перед Громобоем на колени и станет умолять, чтобы тот пошевелил немного мозгами, если хочет их сохранить. И все же кое-какие смутные надежды у меня есть. До скорого, Братец Лис.
Сорок восемь часов спустя облаченный в тропический костюм Аллейн вышел из президентского «роллс-ройса», встретившего его в главном аэропорту Нгомбваны. Изнемогая от жары, он поднялся по грандиозной лестнице, вдоль которой спиной к нему замер строй руританских гвардейцев, и оказался в созданной кондиционерами прохладе президентского дворца.
Взаимодействие на высшем уровне принесло плоды в виде полновесного и мгновенного приема, какого удостаиваются только «особо важные персоны».
– Мистер Аллейн? – поклонился молодой нгомбванец, украшенный золотыми кистями и аксельбантами адъютанта. – Президент так рад вашему приезду. Он примет вас сразу. Хорошо долетели?
Аллейн последовал за небесно-синим мундиром по роскошному коридору, из которого открывался вид на экзотический парк.
– Скажите, – спросил он по пути, – каким титулом полагается пользоваться, обращаясь к президенту?
– «Ваше превосходительство», – обернувшись, ответил адъютант. – Господин президент предпочитает эту форму обращения.
– Благодарю вас. – Аллейн вошел за своим поводырем во внушительных размеров приемную.
Весьма представительный, широко улыбающийся секретарь сказал что-то по-нгомбвански. Адъютант перевел:
– С вашего разрешения мы пройдем прямо к нему.
Двое стражей в щегольских мундирах распахнули двойные двери, и Аллейна ввели в необъятный зал, в дальнем конце которого сидел за громадным столом его старый школьный приятель Бартоломью Опала.
– Суперинтендант Аллейн, ваше превосходительство, господин президент, сэр, – торжественно провозгласил адъютант и удалился.
Его гигантское превосходительство уже не сидело, но приближалось к Аллейну легкой поступью профессионального боксера. Колоссальный голос взревел:
– Рори Аллейн, клянусь всем святым!
Ладонь Аллейна потонула в лапище президента, а спина получила несколько увесистых хлопков. Стоять навытяжку и кланяться, сгибая только шею, что, по представлениям Аллейна, отвечало этикету, оказалось делом затруднительным.
– Господин президент… – начал он.
– Что? Глупости, глупости! Фигня, дорогой мой, как мы выражались в «Давидсоне».
«Давидсоном» назывался пансион при прославленной школе, в которой оба некогда обучались. Громобой был слишком консервативен, чтобы заботиться о словах. Аллейн увидел, что он-то как раз надел старый школьный галстук. Больше того, на стене за президентской спиной висела в раме большая фотография «Давидсона» с группой мальчиков, в заднем ряду виднелись и они с Громобоем.
– Давай-ка присядем, – басил Громобой. – Куда бы нам? Да вот сюда! Садись, садись! Как я тебе рад!
Волосы его, похожие на циновку из стальной проволоки, уже начали седеть и напоминали теперь дамскую шляпку без полей. Огромный торс основательно раздался, белки глаз чуть налились кровью, но Аллейн, словно в двойной экспозиции, видел сквозь эту фигуру выточенного из черного дерева юношу, который сидит у камина, держа в руке бутерброд с анчоусом, и говорит: «Ты мой друг. До сих пор у меня здесь друзей не было».
– Как хорошо ты выглядишь, – восторгался президент. – И как мало переменился! Куришь? Нет? Сигару? Трубку? Да? Ну так кури. Ты, разумеется, завтракаешь с нами. Тебе уже сказали?
– Я ошеломлен, – только и мог вымолвить Аллейн, когда ему наконец удалось вставить слово. – Еще минута – и я забуду все протокольные тонкости.
– Забудь о них прямо сейчас. Тут же нет никого. К чему они?
– Мой дорогой…
– …Громобой. Ну-ка, выговори это слово. Я его уже сто лет не слышал.
– Боюсь, я едва не произнес его, когда вошел. Мой дорогой Громобой.
Президент просиял неожиданно щедрой улыбкой, производившей точь-в-точь такое же впечатление, как прежде.
– Вот и ладно, – негромко сказал он и, помолчав, добавил: – Видимо, мне следует спросить, что стоит за твоим визитом. Ваши официальные лица, как ты знаешь, не очень многословны. Они сообщили только, что ты приезжаешь и был бы не прочь меня повидать. Я, разумеется, страшно обрадовался.
«Да, задали мне задачу, – подумал Аллейн. – Одно неверное слово, и я не только провалю мою миссию, но, похоже, загублю старинную дружбу и даже посею семена политически опасного недоверия».
– Я приехал, чтобы кое о чем тебя попросить, и сожалею, что приходится досаждать тебе этим. Не стану притворяться, будто мое начальство не знает о нашей старой дружбе, которую я очень ценю. Разумеется, знает. Однако я согласился на поездку потому, что считаю эту просьбу разумной и тревожусь о твоей безопасности.
Какой-либо реакции пришлось дожидаться довольно долго. Казалось, упал некий занавес. Впервые с момента их встречи Аллейн, глядя на эту немного отвисшую челюсть, на мешки под лишенными блеска глазами, подумал: «Я разговариваю с негром».
– Ну да! – наконец произнес президент. – Я и забыл. Ты же полицейский.
– Пословица гласит: хочешь сохранить друга – не одалживай ему денег, не так ли? Я не верю в ее справедливость, но, если подставить вместо последних четырех слов «никогда не используй его в своих деловых интересах», я бы с ней спорить не стал. Однако то, что я сейчас делаю, вовсе не сводится к этому. Все гораздо сложнее. Моя конечная цель, верите вы этому, сэр, или не верите, состоит в том, чтобы сохранить вашу чрезвычайно ценную жизнь.
Снова повисло опасное молчание. Аллейн подумал: «Да, именно так ты и выглядел, когда думал, что кто-то тебе нагрубил. Тебя словно ледком покрывало».
Однако ледок растаял, и лицо Громобоя приобрело одно из самых приятных его выражений – такое, словно он увидел нечто забавное.
– Теперь я тебя понял, – сказал он. – Это ваши сторожевые псы, Специальная служба. «Пожалуйста, вразумите его, этого черномазого. Пусть он позволит нам изображать официантов, журналистов, уличных прохожих и почетных гостей, никто нас и не заметит». Так? Это и есть твоя великая просьба?
– Ты знаешь, я боюсь, что они так или иначе сделают это, сделают все, что смогут, с какими бы трудностями им ни пришлось столкнуться.
– Тогда к чему огород городить? Глупо же!
– Они были бы намного счастливее, если бы ты не стал вести себя, к примеру, так, как на Мартинике.
– А что я такого сделал на Мартинике?
– При всем моем глубочайшем уважении: ты настоял на серьезном сокращении мер безопасности и еле-еле увернулся от убийцы.
– Я фаталист, – внезапно объявил Громобой и, поскольку Аллейн не ответил, добавил: – Дорогой мой Рори, я вижу, придется тебе кое-что объяснить. А именно – что я собой представляю. Мою философию. Мой кодекс. Послушаешь?
«Ну вот, – подумал Аллейн. – Он изменился куда меньше, чем это представляется возможным». И, преисполнившись самых дурных предчувствий, сказал:
– Разумеется, сэр. Я весь внимание.
Объяснения при всей их пространности свелись к хорошо известной Аллейну по школе несговорчивости Громобоя, сдобренной и отчасти оправданной его несомненным даром завоевывать доверие и понимание своих соплеменников. Время от времени разражаясь гомерическим хохотом, он подробно распространялся о махинациях нгомбванских экстремистов – и правых, и левых, – которые в нескольких случаях предпринимали серьезные попытки прикончить его, каковые по каким-то мистическим причинам сводились на нет присущим Громобою обыкновением изображать из себя живую мишень.
– В конце концов они уразумели, – объяснил он, – что я, как мы выражались в «Давидсоне», на их собачий бред не куплюсь.
– Это мы так выражались в «Давидсоне»?
– Конечно. Неужели не помнишь? Излюбленное наше выражение.
– Ну пусть.
– Это же было твое любимое присловье. Да-да, – воскликнул Громобой, увидев, что Аллейн намеревается возразить, – ты то и дело его повторял. Мы все у тебя его и переняли.
– Давай, если можно, вернемся к нашему делу.
– Все до единого, – ностальгически продолжал Громобой. – Ты задавал в «Давидсоне» тон.
Тут он, по-видимому, приметил скользнувшее по лицу Аллейна выражение ужаса и, наклонясь, похлопал его по колену.
– Однако я отвлекся, – признал он. – Что, вернемся к нашим баранам?
– Да, – с великим облегчением согласился Аллейн. – Вернемся. К нашим.
– Твой черед, – великодушно объявил Громобой. – Что ты там говорил?
– Ты не думал о том – да нет, конечно, думал, – что тут произойдет, если тебя убьют?
– Как ты и сказал, конечно, думал. Цитируя твоего любимого драматурга – видишь, я не забыл, – последуют «отравленные тучи насилия, убийства, грабежа…». – Громобой произнес цитату с явным удовольствием и добавил: – И это еще слабо сказано.
– Да. Так вот, как ты должен был понять на Мартинике, риск не ограничивается территорией Нгомбваны. Специальной службе известно, действительно известно, что в Лондоне есть полубезумные, на все готовые экстремисты. Среди них имеются выходцы из совсем уж застойных болот колониализма, имеются и те, кого снедает ненависть к цвету твоей кожи. Попадаются также люди, которых по-настоящему сильно обидели, люди, чьи обиды приобрели по причине безысходности самые уродливые очертания. Впрочем, не мне тебе обо всем этом рассказывать. Они существуют, их немало, они организованы и готовы действовать.
– Меня это не тревожит, – со способным довести до исступления самодовольством сообщил Громобой. – Нет, серьезно. Совершенно честно тебе говорю, ни малейшего страха я не испытываю.
– Я твоего чувства неуязвимости не разделяю, – сказал Аллейн. – Я бы на твоем месте обливался потом от страха. – Тут ему пришло в голову, что он и вправду думать забыл о дипломатическом протоколе. – Но пусть так. Примем твое бесстрашие за данность и вернемся к разрушительным последствиям твоей смерти для твоей же страны. Вот к этим самым «отравленным тучам». Неужели даже эта мысль не способна склонить тебя к осторожности?
– Но, дорогой мой, ты так и не понял. Никто меня не убьет. Я это точно знаю. Чую нутром. Мне просто-напросто не писано на роду пасть от руки убийцы, только и всего.
Аллейн открыл было рот, но смолчал и снова закрыл.
– Только и всего, – повторил Громобой и развел руки в стороны. – Ты понял! – торжествующе воскликнул он.
– Ты хочешь сказать, – произнес Аллейн, тщательно подбирая слова, – что пуля в Мартинике, копье в глухой нгомбванской деревушке и пара-другая выстрелов в упор, которыми тебя время от времени награждали, – всем им было предначертано остаться безрезультатными?
– Дело не только в том, что в это верю я сам, дело в том, что мой народ – мой народ – в глубине души сознает, что так оно и есть. Это одна из причин, по которым меня каждый раз переизбирают, причем единогласно.
Аллейн не стал спрашивать, не является ли это также одной из причин, по которым никто пока не набрался безрассудной смелости выставить против него свою кандидатуру.
Громобой протянул здоровенную красивую руку и положил ее на колено Аллейна.
– Ты был и остался лучшим моим другом, – сказал он. – Мы были близки в «Давидсоне». Мы оставались близкими людьми, пока я изучал право и каждый день обедал в «Темпле». Мы и теперь близки. Но то, о чем мы сейчас говорим, связано с цветом моей кожи, с моей расой. Моей чернотой. Прошу тебя, дорогой мой Рори, не старайся понять, постарайся просто принять.
Единственным, что смог Аллейн ответить на такую просьбу, было:
– Все не так просто.
– Нет? Почему же?
– Если бы я говорил только о моей собственной тревоге за твою жизнь, я ответил бы, что не могу ни понять этого, ни принять, а ты как раз этого слышать от меня и не хочешь. Поэтому я вынужден вновь обратиться в получившего трудное задание упрямого полицейского и вернуться к прежним моим доводам. Я не состою в Специальной службе, но мои коллеги из этого отдела попросили меня сделать все от меня зависящее, что выглядит делом дьявольски сложным. Я обязан объяснить тебе, что их работа, чрезвычайно тонкая и немыслимо трудная, станет вдвое труднее, если ты не пожелаешь им помочь. Если тебе, например, внезапно захочется изменить маршрут, по которому ты должен следовать на какой-нибудь прием, или выйти из посольства, никому ничего не сказав, и отправиться подышать в одиночестве воздухом в Кенсингтонском парке. Грубо говоря, если тебя убьют, кое-кому в Специальной службе оторвут голову, а отдел в целом утратит всякое доверие, питаемое к нему на высшем и низшем уровнях, не говоря уж о том, что вековая репутация Англии как страны, в которой можно не бояться покушения на убийство по политическим мотивам, пойдет прахом. Как видишь, я обращаюсь к тебе не только от имени полиции.
– Полиция как институт, призванный служить народу… – начал Громобой, но осекся и, как показалось Аллейну, покраснел.
– Ты хотел сказать, что нам следует знать наше место? – мирно осведомился Аллейн.
Громобой поднялся и принялся мерить шагами комнату. Аллейн тоже встал.
– У тебя талант ставить человека в неудобное положение, – вдруг пожаловался Громобой. – Я это еще по «Давидсону» помню.
– Похоже, я был препротивным мальчишкой, – откликнулся Аллейн. Он чувствовал, что уже сыт «Давидсоном» по горло, да и что еще оставалось сказать? – Я отнял у вашего превосходительства слишком много времени, – произнес он. – Прошу меня простить.
И замолк, ожидая разрешения удалиться. Громобой скорбно уставился на него.
– Но ты же согласился позавтракать с нами, – напомнил он. – Мы договорились. Все уже подготовлено.
– Вы очень добры, ваше превосходительство, но сейчас только одиннадцать часов. Не могу ли я до того времени вас покинуть?
К полному своему смятению, он увидел, как налитые кровью глаза Громобоя заполняются слезами. С величавым достоинством гигант произнес:
– Ты меня расстроил.
– Мне очень жаль.
– Я так обрадовался твоему приезду. А теперь все испорчено и ты называешь меня «превосходительством».
Аллейн ощутил, как у него дрогнули уголки губ, и в то же время его охватило странное сострадание. Совершенно неуместное чувство, решил он. Аллейн напомнил себе, что президент Нгомбваны отнюдь не принадлежит к восторженным простачкам. Это хитрый, целеустремленный и порою жестокий диктатор, наделенный, что также следует признать, способностью быть верным другом. К тому же он – человек чрезвычайно наблюдательный. «И забавный, – думал Аллейн, стараясь ничем своих мыслей не выдать. – При всем при том он безумно забавен».
– Ага! – внезапно взревел президент. – Ты смеешься! Мой милый Рори, ты смеешься! – И сам взорвался гомерическим хохотом. – Нет, это уж слишком! Согласись! Это же курам на смех! О чем мы спорим? Да ни о чем! Ладно, я буду послушным мальчиком. Буду вести себя хорошо. Скажи своим надутым друзьям из Специальной службы, что я не стану убегать, когда они начнут прятаться среди настурций на клумбе и переодеваться пожарными и дамами с собачками. Ну вот! Ты доволен? Да?
– Я счастлив, – кивнул Аллейн. – Если, конечно, ты говоришь серьезно.
– Серьезно-серьезно. Вот увидишь. Я буду сама благопристойность. В тех пределах, – присовокупил он, – на которые распространяется их незамысловатая ответственность. То есть в пределах Объединенного королевства. Годится? Да?
– Да.
– И никаких больше «превосходительств». Нет? Нет. – И не моргнув глазом – Громобой добавил: – Когда мы с тобой tête-à-tête[4]. Вот как сейчас.
– Как сейчас, – согласился Аллейн и был немедля пожалован радостным рукопожатием.
Оказалось, что перед тем как присоединиться к президенту за завтраком, ему предстоит совершить часовую поездку по городу. Вновь появился элегантный адъютант. Снова шагая с ним по коридору, Аллейн поглядывал сквозь доходящие до полу окна на ядовито-зеленый парк. Водяная вуаль череды фонтанов чуть приглушала пронзительные краски его цветов. За радугами взлетающей и опадающей воды различались расставленные через равные промежутки неподвижные фигуры в военной форме.
Аллейн приостановился.
– Какой прекрасный парк, – сказал он.
– О да! – улыбаясь, откликнулся адъютант. Отражения цветовых и световых пятен сада играли на его нижней челюсти и щеках, словно вырезанных из шлифованного угля. – Вам нравится? Президенту очень нравится.
Он переступил, словно собираясь двинуться дальше.
– Может быть, мы?.. – предложил он.
Вдали, за фонтанами, по саду маршировала шеренга солдат в красивых мундирах и при оружии – налево, направо, налево, направо. Размытые радужными каскадами воды, они различались с трудом, однако видно было, что маневрируют те не просто так, но сменяя прежних часовых.
– Смена караула, – заметил Аллейн.
– Верно. Это войска чисто церемониальные.
– Да?
– Как у вас в Букингемском дворце, – пояснил адъютант.
– Ну разумеется.
Они миновали величественный вестибюль и прошли через строй живописных гвардейцев у входа.
– И эти тоже чисто церемониальные? – поинтересовался Аллейн.
– Конечно, – подтвердил адъютант.
Вооружены они, как заметил Аллейн, – если не до зубов, то до поясницы – весьма действенным с виду оружием.
– Очень красивая экипировка, – учтиво сказал он.
– Президент будет рад узнать, что вы так считаете, – откликнулся адъютант, и оба вышли под ослепительные, жаркие лучи, бившие сверху, словно вода из душа.
Прямо у ступеней лестницы их поджидал обильно изукрашенный изображениями герба Нгомбваны президентский «роллс-ройс» с развевающимся президентским флажком – неуместным, поскольку ехать в автомобиле на этот раз предстояло вовсе не президенту. Аллейна усадили на заднее сиденье, адъютант занял переднее.
Сидя за закрытыми окнами, в навеваемой кондиционером прохладе, Аллейн думал: «Это, конечно, не первая пуленепробиваемая машина, в которой мне приходится ехать, но зато уж самая непробиваемая». Он гадал, найдется ли во всей нгомбванской службе безопасности сила, превосходящая могуществом ту, что была порождена внезапно воскресшими воспоминаниями о «Давидсоне».
Они катили по городу, сопровождаемые двумя сверхъестественно проворными, пышно экипированными мотоциклистами. «Бритоголовые, хулиганье на мотоциклах, патрульные полицейские, вооруженный эскорт – что сообщает им всем, – размышлял Аллейн, – всякий раз, как они газуют и с ревом срываются с места, выражение угрожающей вульгарности?»
Машина неслась по заполненным людьми, безжалостно сверкающим улицам. У Аллейна отыскалось по нескольку добрых слов для каждого из огромных белых кошмаров – Дворца культуры, Дворца правосудия, Дворца городской администрации. Адъютант с полнейшим удовлетворением слушал его учтивые речи.
– Да, – соглашался он. – Все очень хорошие. Все новые. Построены при президенте. Очень замечательно.
Машин на улицах было много; замечалось, впрочем, что поток их расступается перед эскортом, будто Красное море перед Моисеем. На седоков президентского автомобиля глазели, но издали. Один раз, когда они резко свернули направо и на миг притормозили, задержанные встречной машиной, их шофер, не повернув головы, сказал незадачливому водителю что-то такое, отчего тот пошел испуганными морщинами.
Когда глазам Аллейна, женатого на художнице, представала какая-либо сцена, все равно какая, он видел ее словно бы двойным зрением. Будучи полицейским, прошедшим суровую выучку, он машинально выискивал в ней отличительные черты. Будучи человеком, проникшимся всеми тонкостями той манеры видеть окружающее, которая была присуща его жене, он искал созвучные элементы. Сейчас, погрузившись в толчею округлых черных голов, которые танцевали, перемещались, скапливались и расходились среди неумолимого зноя, он видел эту сцену такой, какой могла бы написать ее жена. Среди множества зданий постарше он выделил одно, которое как раз начали красить заново. Сквозь краску проступал призрак прежней надписи «импо тная о говля сансрита». Он увидел колоритную группу людей, движущихся вверх и вниз по ступеням здания, и подумал о том, как Трой, упростив их движение, переставив их и убрав ненужное, могла бы придать им ритмический смысл. Она бы нашла в их толпе фокальную точку, думал он, какую-нибудь фигуру, которая подчинила бы себе все остальные, фигуру первостепенной важности.
И в тот самый миг, как эта мысль пришла ему в голову, перестановка совершилась сама собой. Фигуры людей перетасовались, словно кусочки стекла в калейдоскопе, и выделили фокальную точку – человека, не заметить которого было нельзя, ибо то был неподвижно застывший, гротескно толстый мужчина с длинными светлыми волосами, облаченный в белый костюм. Белокожий.
Мужчина уставился на президентский «роллс». До него было не меньше пятидесяти ярдов, но для Аллейна они словно бы обратились в футы. Двое взглянули в глаза друг друга, и полицейский сказал себе: «К этому типу следует присмотреться. Явный мерзавец».
Калейдоскоп, щелкнув, смешался. Стеклышки скользнули, рассыпались и вновь собрались воедино. Поток людей, выливавшийся из здания, стекал по ступеням и расточался. Когда между фигурами вновь образовался просвет, белого человека в нем больше не было.
4
– Дело тут вот какое, сэр, – торопливо говорил Чабб. – В номере один работы на целый день все равно не хватает, и опять же нас здесь двое, вот мы и стали подрабатывать по соседству, временно. К примеру, миссис Чабб спускается через день вниз, к мистеру Шеридану, прибирается там, а я хожу к полковнику – тут на площади живут полковник и миссис Кокбурн-Монфор – каждую пятницу, на два часа, а воскресными вечерами мы сидим с ребенком в номере семнадцатом по Уок. И еще…
– Да, я понял, – сказал мистер Уипплстоун, надеясь остановить словоизвержение Чабба.
– Чтобы у нас тут какой недосмотр случился или неисправность, сэр, это ни в коем случае, – вставила миссис Чабб. – На нас никто не жалуется, сэр, честное слово, никто. Мы просто хотим с вами условиться.
– И конечно, сэр, жалованье наше соответственно урезается. Мы ничего другого и не ожидаем, сэр, как можно?
Супруги стояли бок о бок с обеспокоенными круглыми лицами, тараща глаза и приоткрыв рты. Мистер Уипплстоун выслушал обоих, храня на лице врожденное выражение внимательной отрешенности, и в конце концов согласился на их предложение – что шесть дней в неделю Чаббы будут с утра полностью находиться в его распоряжении, включая завтрак, обед и ужин; что при условии поддержания дома в должном порядке они могут заниматься мистером Шериданом и кем им угодно по собственному усмотрению; что по пятницам мистер Уипплстоун станет обедать и ужинать в клубе или где-то еще и что жалованье их, как выразился Чабб, «соответственно урезается».
– Большинство здешних, сэр, – принялся объяснять Чабб, когда эта договоренность была в основном достигнута и они перешли к обсуждению мелких деталей, – пользуются кредитом в «Неаполе». Возможно, и вы предпочтете иметь дело с ними.
– А насчет мясника, – вступила миссис Чабб, – так тут есть…
И они подробно поведали об удобствах, с которыми сопряжена жизнь на Каприкорнах.
– Все это звучит весьма привлекательно, – заметил мистер Уипплстоун. – Знаете, я, пожалуй, пойду прогуляюсь и заодно огляжусь.
Так он и сделал.
«Неаполем» назывался один из четырех магазинчиков, стоявших на Каприкорн-Мьюз. В качестве «магазина» он был сведен до абсолютного минимума: узкой полоски пола, на которой покупатели стояли гуськом, да и то не больше восьми человек зараз, если они соглашались потесниться. Владела магазинчиком итальянская чета – смуглый, всегда чем-то озабоченный муж и такая же смуглая, полная и веселая жена. В помощниках у них состоял здоровенный шутливый кокни.
Магазинчик оказался очень мил. Владельцы сами солили бекон и ветчину. Мистер Пирелли изготовлял по собственному рецепту паштет и замечательно вкусный террин. Сыры предлагались просто великолепные. Бутылки сухого «Орвьето» и других итальянских вин теснились на верхних полках. Другие полки были уставлены разного рода экзотическими деликатесами. Обитатели Каприкорнов частенько высказывались в том смысле, что «Неаполь» – это карманный «Фортнум». Собак в магазин не допускали, но снаружи у дверей были предусмотрительно вделаны в стену крючья для поводков, и по утрам вдоль стены располагался целый собачий собор, состоявший из представителей самых разных пород.
Мистер Уипплстоун обогнул собак, вошел в магазин и купил многообещающего вида кусок камамбера. В магазине присутствовал уже виденный им на улице багроволицый мужчина с армейской выправкой, неизменно одетый в безупречный костюм и перчатки; мистер Пирелли, обращаясь к нему, называл его «полковником». «Монфор?» – подумал мистер Уипплстоун. С ним была его супруга. Устрашающая дама, решил привередливый мистер Уипплстоун, с физиономией беспутного клоуна и чересчур расфуфыренная. На лицах обоих запечатлелось выражение старательной осмотрительности, которое мистер Уипплстоун приписал опасному воздействию сокрушительного похмелья. Дама, вытянувшись и замерев, стояла за спиной мужа, но, когда мистер Уипплстоун приблизился к прилавку, отшагнула в сторону и врезалась в него, вонзив ему в ступню острый каблук.
– Виноват! – болезненно вскрикнул он и приподнял над головой шляпу.
– Ничего, не страшно, – сдавленно ответила дама, бросив на мистера Уипплстоуна взгляд, для описания которого ему удалось отыскать только два слова – «плотоядный» и «непроспавшийся».
Муж ее обернулся и, видимо, счел необходимым завязать разговор.
– Не очень-то тут поманеврируешь, – гаркнул он. – Что?
– Вполне, – ответил мистер Уипплстоун. Он открыл кредит и вышел из магазина, намереваясь продолжить свои исследования.
Вскоре он оказался на том самом месте, где ему повстречалась черная кошка. Большой грузовик задом въезжал в гараж. Мистеру Уипплстоуну почудилось вдруг, что он краем глаза заметил быстро метнувшуюся тень, а когда грузовик затих, вроде бы даже услышал, почти услышал, бестелесный, жалобный вскрик. Однако никаких подтверждений эти фантазии не получили, и он, странно взволнованный, пошел дальше.
В самом конце Мьюз, за проулком, находится что-то вроде пещеры, бывшей прежде конюшней и затем переделанной в лавочку. В описываемое нами время здесь обитала толстая, злобного обличья женщина, лепившая из глины свиней, предназначенных служить либо упором для входной двери, либо – у этих на боках изображались розы и маргаритки, а в спинах имелись дырки – сосудами для сметаны, а то и вазами для цветов, это уж какая кому приспеет фантазия. Размеры свиней менялись, но общее их устройство оставалось всегда одинаковым. Печь для обжига стояла у задней стены пещеры, и, когда мистер Уипплстоун заглянул вовнутрь, толстая женщина вперилась в него из темноты неподвижным взглядом. Над входом висела вывеска: «Кс. и К. Санскрит. Свиньи».
«Истинно коммерческая прямота», – подумал мистер Уипплстоун, усмехаясь собственной шутке. Интересно, к какой национальности может принадлежать человек, носящий фамилию Санскрит? К итальянской, наверное. И что это за «Кс.» такое? Ксавье? «Зарабатывать на жизнь, бесконечно воспроизводя глиняных свиней? – подивился он. – Да, но что напоминает мне эта странная фамилия?»