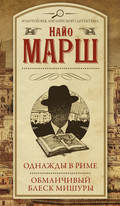Найо Марш
Смерть в театре «Дельфин»
– Вы… вы собираетесь снести театр? – спросил Перегрин, поразившись фальшивой бодрости собственного голоса. Он сделал глоток рома – очень крепкого.
– И вас это не устраивает, – заметил мистер Кондусис – не вопросительным, а утвердительным тоном. – Есть у вас какие-то соображения, помимо общего интереса к подобным зданиям?
Если бы Перегрин был трезв и одет в собственную одежду, он, возможно, пробормотал бы что-то невнятное и поспешил покинуть дом мистера Кондусиса, прервав всяческие контакты с владельцем. Однако сейчас Перегрин был выдернут из привычной среды и привычной одежды. Он возбужденно заговорил. Говорил о «Дельфине», о том, как он выглядел после того, как мистер Адольф Руби славно его украсил. Описал, каким он представлял театр до падения в колодец: чистый, сияющий светом люстр, полный, теплый, жужжащий и ожидающий. Заявил, что этот театр – последний в своем роде, с такой большой сценой, что там можно осуществлять крупные постановки.
Перегрин уже забыл и о мистере Кондусисе, и о том, что не стоит пить много рома. Он говорил увлеченно и самозабвенно.
– Только представьте себе! Сезон шекспировских комедий! Представьте «Бесплодные усилия» на этой сцене. Может, получится достать баржу – да, «Серый дельфин», – и люди будут добираться на спектакль по воде. А перед началом представления мы поднимем флаг с ужасно умным дельфином. И все будем делать быстро и легко, элегантно и… О! – воскликнул Перегрин. – И чтобы дух захватывало, да так, как не бывает ни с одним другим драматургом.
Перегрин расхаживал по библиотеке мистера Кондусиса. Смотрел, не видя, на ручной выделки корешки коллекционных изданий, на картину, которую с изумлением вспоминал впоследствии. Размахивал руками. Возбужденно кричал.
– Ничего подобного не было в Лондоне с тех пор, как Бербедж перенес первый театр из Шордича в Саутворк. – Перегрин заметил свой бокал и залпом осушил его. – И это не пустые фантазии, учтите. Не завираки. Господи, нет! Но и не пародия. Просто хороший театр, делающий то, что ему положено. Причем делающий не по каким-то чертовым методам, системам и тенденциям – или что там еще. Учтите.
– Вы снова про Шекспира? – раздался голос мистера Кондусиса. – Я правильно понимаю?
– Ну разумеется, про него! – Перегрин вдруг вспомнил о присутствии мистера Кондусиса. – О боже! – сказал он.
– Что-то случилось?
– Боюсь, я немного перебрал, сэр. Не то чтобы перебрал, но чересчур раскрепостился. Мне ужасно жаль. Наверное, пора уходить, а все, что вы мне так любезно одолжили, я обязательно верну. Верну как можно быстрее, само собой. Так что прошу…
– Чем вы занимаетесь в театре?
– Я ставлю спектакли. И написал две пьесы.
– Ничего не знаю о театре, – пожал плечами мистер Кондусис. – Вы достаточно успешны?
– Ну, пожалуй, сэр. Думаю, да. За последние три месяца у меня столько работы, сколько я в силах сделать, и, хочется верить, мой авторитет растет. Прощайте, сэр.
Перегрин протянул руку. Мистер Кондусис, на лице которого, похоже, мелькнул ужас, отшатнулся.
– Прежде чем вы уйдете… Хотел вам показать кое-что, вдруг заинтересует. Уделите мне минутку?
– Разумеется.
– Это здесь, – тихо произнес мистер Кондусис и подошел к великолепному изящному бюро.
Перегрин последовал за хозяином и увидел, как тот выдвигает блестящий, изящно инкрустированный ящичек.
– Какое милое, – заметил Перегрин.
– Милое? – опять переспросил мистер Кондусис. – Вы про бюро? Да, его для меня специально разыскали. Я сам в этом совсем не разбираюсь. Я вовсе не его хотел показать. Вот, посмотрите. Пойдемте к столу.
Он вынул из ящика небольшую деревянную коробочку, очень старую, в пятнах и, по мнению Перегрина, ничем не примечательную. Коробочку мистер Кондусис положил на стол у окна и указал на кресло рядом. Перегрину показалось, что он исполняет роль в чужом сне. «Я вовсе не пьян, – подумал он. – Просто в некоем достойном сожаления и зависти состоянии, когда все кажется к лучшему».
Он сел у стола, и мистер Кондусис, стоявший в стороне, нажал на коробочку белым плоским пальцем. Открылось двойное дно. Необычного в этом ничего не было, и Перегрин не мог решить, ждут ли от него удивленного восклицания. Он увидел, что в открывшемся отделении лежит сверток, размером – да и формой – напоминающий половину селедки, обернутый в выцветший желто-бурый шелк и перевязанный куском блеклой ленты. Мистер Кондусис уже держал в руке нож для бумаг. «Все, что его окружает, – подумал Перегрин, – сплошь музейные экспонаты». Ножом, как сервировочной лопаткой, хозяин поднял шелковый сверток и подал его, словно блюдо, гостю.
Сверток соскользнул с лезвия, а с ним и выцветшая карточка, на которой он лежал. Перегрин чуть мутным взглядом разглядел, что это – меню; на нем стояла дата шестилетней давности. Поперек мелькнувшего перед глазами заголовка «Паровая яхта “Каллиопа”. У Вильфранша. Праздничный ужин» красовалась над десятком прочих витиеватая неразборчивая подпись.
– Извините, – сказал мистер Кондусис, быстро накрывая ладонью карточку и убирая ее прочь. – Это тут совсем ни при чем. Интересен сам сверток. Откроете?
Перегрин осторожно потянул за концы ленты и развернул шелк.
На свет явилась перчатка. Детская, цвета старого пергамента, в пятнах, похоже, от воды и сморщенная, как лицо древнего старика. Перчатку покрывала изящная вышивка – крохотные золотые и алые розы. Золотая бахрома на конических манжетах потемнела и растрепалась. Ничего столь же душераздирающего Перегрин в жизни не видел.
Под перчаткой лежали две сложенные бумаги, давно выцветшие.
– Прочитаете? – пригласил мистер Кондусис и отошел к камину.
Перегрин необычайно деликатно прикоснулся к перчатке. «Лайка, – подумал он. – Лайковая перчатка. От времени, наверное, стала хрупкой?» Нет. Кожа под кончиками пальцев была необъяснимо мягкая, словно только что выделанная. Перегрин вытащил из-под перчатки бумаги – порванные на сгибах, грязные и блеклые. Очень аккуратно развернув ту, что побольше – она легла перед ним порванная, – и напрягшись, Перегрин прочел:
«Эту маленькую перчатку и прилагаемое письмо моя прапрабабушка получила от лучшей подруги, миссис – или мисс – Дж. Харт. Моя милая бабушка уверяла, что это принадлежало Барду. NB. Смотри отметку внутри манжеты.
М. Е. 23 апреля 1830 года».
«Прилагаемое письмо» было всего лишь клочком бумаги. Надпись сильно поблекла; Перегрин даже сначала принял корявые извилистые буквы за иероглифы и решил, что ничего не удастся прочесть. Потом начал узнавать буквы, которые постепенно складывались в слова.
Воцарилась тишина. Огонь в камине утих. Кто-то прошел по комнате над библиотекой. Перегрин слышал биение собственного сердца. Он прочитал:
«Сделаны моим отцом для моего сына на XI день рождения и ношены только раз».
Перегрин застыл, глядя на маленькую перчатку и документы. Мистер Кондусис оставил нож для бумаг на столе. Перегрин вставил кончик ножа из слоновой кости в раструб перчатки, очень медленно поднял и повернул. Внутри стояла пометка, теми же корявыми буквами. «Х. Ш.».
– Но откуда… – Перегрин не узнал собственный голос. – Откуда она у вас? Чья она?
– Моя, – ответил мистер Кондусис издалека. – Разумеется.
– Но… где вы ее нашли?
Долгая пауза.
– В море.
– В море?
– Во время круиза шесть лет назад. Купил.
Перегрин посмотрел на хозяина. Как бледен мистер Кондусис и как странно ведет себя!
– Ящик – своего рода дорожный письменный прибор – передавался по наследству. Бывший владелец узнал о существовании двойного дна только… – Мистер Кондусис замолк.
– Только? – повторил Перегрин.
– Только незадолго до смерти.
– Специалистам показывали? – спросил Перегрин.
– Нет. Конечно, стоило проконсультироваться в музее или у «Сотбис».
Мистер Кондусис говорил так спокойно и безмятежно, что Перегрин заподозрил: хозяин каким-то непостижимым образом не понимает значимости вещи. Как бы уточнить… но тут мистер Кондусис продолжил:
– Я не проводил полной проверки, однако понимаю, что возраст мальчика в момент смерти совпадает со свидетельствами и что его дед был перчаточником.
– Да.
– И что инициалы внутри перчатки совпадают с инициалами мальчика.
– Да. Хемнет Шекспир.
– Именно, – сказал мистер Кондусис.
Глава 2. Мистер Гринслейд
I
– Знаю, – сказал Перегрин. – И не нужно повторять, Джер. Я знаю, что вокруг имени Барда всегда существовала нездоровая шумиха, а к четырехсотлетнему юбилею она выросла еще. Я знаю о кутерьме вокруг старых портретов с выпуклым лбом, о поддельных автографах, «украденных и обретенных списках», фальшивых «открытиях» – обо всем. Я знаю, что, вероятнее всего, эта перчатка – всего лишь подделка. Я только прошу тебя понять, что, увидев все это перед собой, я просто с катушек съехал.
– И не только от перчатки, как я понимаю. Чуть не утонул, напился, щеголял в шмотках миллионера и еще опасался, что хозяин к тебе подкатывает.
– Да точно нет!
– Ты сам говорил, что он вел себя по меньшей мере странно.
– Чертовски странно, но я уверен, что не по-гейски.
– Ну, тебе виднее. – Джереми Джонс склонился над рабочим столом и сделал аккуратный разрез в куске тонкого картона – готовил модель декорации к клубной постановке «Спасенной Венеции». Потом отложил бритву и посмотрел на Перегрина. – Можешь нарисовать ее?
– Попробую.
Перегрин помнил перчатку совершенно отчетливо и нарисовал приличный эскиз.
– На вид похоже, – кивнул Джереми. – Конец шестнадцатого века. Крой соответствует. Петелька. Вышивка. Сужается к запястью. А кожа?
– О, мягкая, словно сама нежность. Желтая, сморщенная – и очень-очень старая.
– Допустим, перчатка елизаветинской эпохи или яковианской, но письмо может оказаться подделкой.
– Зачем? Никто не пытался на нем заработать.
– Тебе это не известно. Ничего вообще не известно. У какого приятеля Кондусис купил это все?
– Он не сказал.
– Кто такая «М. Е.», чья дражайшая бабушка настаивала, что перчатка принадлежала Барду?
– Ну что ты меня спрашиваешь? Сам ведь помнишь, что прапрабабушке она досталась от миссис Дж. Харт. И что Джоан Харт…
– Урожденная Шекспир, которой брат завещал носильную одежду. Да. Этакие подтверждающие подробности, которые добавляет любой мошенник. Разумеется, все это нужно отдать экспертам.
– Повторяю, я так и сказал ему. Сказал, что стоит обратиться в музей Виктории и Альберта. А он снова посмотрел на меня странным взглядом – хитрым, испуганным, пустым, не знаю, как описать, – и я заткнулся.
– Само по себе подозрительно! – Джереми улыбнулся другу и сказал: – Жаль, не видал я!
– Ну, в таком случае… Вас бы дрожь взяла.
– Все может быть[4]. Что мы знаем про Кондусиса?
– Ну, точно я не припомню, – ответил Перегрин. – Неслыханный богач, это понятно. Однажды в воскресном приложении про него была статья. О том, как он терпеть не может публичности, бежит ее, как Грета Гарбо, и заставляет мистера Гульбенкяна с завистью смотреть ему вслед. И как он отказывается от увеселений, и что он, возможно, и есть сказочный анонимный филантроп. Мама, говорят, русская, отец – англо-румын.
– А откуда все его деньги?
– Не помню. Нефть, как всегда? Называлась статья «Мистический Мидас», и там была его фотография – как злится и пытается сбежать от камер на ступеньках своего банка. Я читал в приемной у стоматолога.
– Не женат?
– Думаю, нет.
– Как вы расстались?
– Он просто вышел из комнаты. А лакей сказал, что подана машина, которая доставит меня домой. Отдал мне мою ужасную вонючую записную книжку и сообщил, что одежду отправили в чистку, а там признали не подлежащей восстановлению. Я спросил насчет мистера Кондусиса, и слуга ответил, что мистеру Кондусису звонят из Нью-Йорка и он «вполне поймет». Я уловил намек и убрался. Наверное, нужно послать письмо с благодарностью, да?
– Пожалуй. И еще он владелец «Дельфина» и намерен театр снести, а на его месте построить, наверное, новое чудище в Саут-Банке?
– Он «обдумывает» эту идею.
– Пусть этой идеей и подавится.
– Джер, – сказал Перегрин, – ты должен поехать и посмотреть. С ума сойдешь. Кованое железо. Херувимчики. Кариатиды. Замечательное попурри начала и середины Викторианской эпохи, собранное ангелом. Боже, боже, только подумать, что можно там сделать!
– И этот жуткий старый Крез…
– Знаю. Знаю.
Они уставились друг на друга с единодушным возмущением и отчаянием молодых людей, охваченных общим, не находящим выхода энтузиазмом.
Оба учились в одной театральной школе, и оба решили, что по темпераменту, интересам и способностям склонны скорее к постановке, нежели к игре на сцене. Джереми в результате выбрал дизайн, а Перегрин – режиссуру. Они работали вместе и порознь в репертуарных театрах; потом перебрались в более престижные провинциальные театры и дальше – на удачу – в Лондон. Оба теперь были достаточно известны в качестве «подающих надежды»; обоим порой приходилось терпеть нервотрепку периодов безработицы. У Перегрина только что состоялась успешная режиссерская премьера в «Единороге», а собственная пьеса шла в пробных прогонах за пределами Лондона. Джереми продумывал оформление для театра масок, которое собирался отправить на международный конкурс театральных художников. Недавно он стал партнером в маленьком магазинчике на Уолтон-стрит – там продавалось «старье высшей категории, кошельки, корсеты и чудные гульфики яковианской эпохи».
Почти весь заработок Джереми и Перегрина ушел на аренду и обстановку квартиры-студии; перед носом неприятно маячил финансовый кризис. Джереми совсем недавно распрощался с непредсказуемой блондинкой; их разрыв принес облегчение Перегрину, которому приходилось терпеть неожиданные набеги блондинки на их квартиру.
Сам Перегрин без происшествий завершил роман с актрисой, очень кстати почувствовавшей ту же скуку, в какой он, со своей стороны, не решался признаться. Они расстались почти без переживаний с обеих сторон, и в настоящее время сердце Перегрина было свободно.
Темноволосый высокий Перегрин напоминал озорника; среднего роста, румянолицый и довольно язвительный Джереми за чопорными манерами прятал влюбчивость. Обоим было по двадцать семь лет.
Квартира находилась на верхнем этаже дома, перестроенного из пакгауза на берегу Темзы к востоку от Блэкфрайарс. Именно из окна студии примерно неделю назад Перегрин, разглядывая Саут-Банк в полевой бинокль, заметил здание «Дельфина», узнал, что это такое, и нацелился на него.
Он подошел к окну.
– До сих пор перед глазами… В этом театре я провел самые страшные полчаса жизни. Я должен ненавидеть один его вид, но, боже мой, я хочу его, как ничего в жизни не хотел. Знаешь, если Кондусис действительно решит снести его, я, право слово, вряд ли смогу стоять здесь и смотреть в окно.
– Тогда нужно подкараулить его, рухнуть перед ним на колени и зарыдать: «О, сэр, просим вас, сэр, пощадите “Дельфин”, умоляем вас, сэр».
– Я точно могу сказать, как он отреагирует. Отшатнется, как будто мы воняем, и безучастно заявит, что понятия не имеет, о чем я говорю.
– Интересно, во сколько это обойдется.
– Восстановить его? Сотни тысяч, вне всяких сомнений, – мрачно сказал Перегрин. – Интересно, есть ли столько у «Национального театра». Или вообще у кого-нибудь. Должно же быть общество, которое охраняет памятники старины?
– «Понятия не имею, о чем ты говоришь», – передразнил Джереми.
С некоторой долей сожаления, в котором не признался бы и под пыткой, Перегрин начал упаковывать вещи мистера Кондусиса. Костюм из темного твида пошил, несомненно, непревзойденный портной. Перегрин постирал и погладил носки, белье и рубашку, которые носил минут сорок, и взял коробку из запасов Джереми, чтобы сложить все в нее.
– Отправлю посыльного, чтобы доставил.
– С какой стати?
– Не знаю. Самому идти чертовски стыдно.
– Ты только передашь посылку раззолоченному лакею.
– Буду чувствовать себя ослом.
– Псих, – буркнул Джереми.
– Не хочу возвращаться туда. Там все чудное. Великолепное, конечно, но какое-то зловещее. Как в романе про исполнение желаний.
– Зачарованный молодой драматург и добрый затворник.
– Вряд ли Кондусис добрый, хотя перчатка меня, честно сознаюсь, очаровала. Знаешь что?
– Что?
– Она подала мне идею.
– Даже так? Идею чего?
– Пьесы. Не хочу пока обсуждать.
– Конечно, раньше времени обсуждать ни к чему, – согласился Джереми. – Но это путь к отказу[5].
В наступившем молчании они услышали металлический хлопок почтового ящика внизу.
– Почта, – сказал Джереми.
– Для нас ничего.
– Счета.
– Я их не читаю. Боюсь, – сказал Пере-грин.
– А вдруг письмо от Кондусиса – с предложением усыновить тебя.
– Ха-ха-ха.
– Иди посмотри, – сказал Джереми. – Не терплю, когда ты начинаешь кудахтать. Пробежка по лестнице пойдет тебе на пользу.
Перегрин дважды обошел комнату, медленно спустился по дряхлой лестнице и открыл почтовый ящик. Там лежали три счета (два, заметил Перегрин, для него), рекламный проспект и напечатанное на машинке письмо.
«Перегрину Джею, эсквайру. Лично в руки».
По какой-то причине – он сам не понимал по какой – Перегрин не открыл письмо, а вышел из дверей и направился по тихой улочке к месту, где в просвет между домами можно было увидеть Саутворк за рекой. Впоследствии он припоминал, как зашевелилась его сука-муза (собственное любимое выражение). Перегрин уставился невидящим взором на склад, который частично закрывал вид на «Дельфин»: возможно, «Фиппс Броз», где работал человек с масленкой – Джоббинс. Где-то на реке раздались гудки. Интересно, подумал лениво Перегрин, все речные суда разом запустили сирены? Пальцы правой руки играли с конвертом в кармане.
Со странным чувством, что совершает нечто судьбоносное, он вдруг достал письмо и вскрыл его.
Пять минут спустя Джереми услышал, как грохнула входная дверь, и по лестнице промчался Перегрин. Он появился на пороге бледный и, похоже, потерявший дар речи.
– Я тебя умоляю, теперь-то что? – спросил Джереми. – Кондусис пытался тебя похитить?
Перегрин всунул ему листок бумаги.
– Давай. Читай, черт побери!
«Уважаемый сэр, – прочитал Джереми. – Я получил указание от мистера В. М. Г. Кондусиса поставить Вас в известность, что он рассмотрел вопрос о театре «Дельфин» на Уорфингерс-лейн, который он обсуждал с Вами сегодня утром. Мистер Кондусис заинтересован изучить данный вопрос во всех подробностях. Он предлагает Вам с этой целью обратиться в офис «Консолидейтед ойлз, лимитед» и побеседовать с мистером С. Гринслейдом, который обладает всей информацией по данному вопросу. Для Вашего удобства прилагаю карточку с адресом и сопроводительное письмо.
Я взял на себя смелость назначить Вашу встречу с мистером Гринслейдом на 11.30 завтра (среда). Если время Вам не подходит, будьте любезны сообщить об этом по телефону секретарю мистера Гринслейда до 17.30 сегодня.
Мистер Кондусис просит меня передать, чтобы Вы не беспокоились о возврате вещей, которые он имел удовольствие предложить Вам после ужасного происшествия, ибо за него он считает себя полностью ответственным. Он понимает, что Ваша собственная одежда безнадежно пострадала, и надеется, что Вы позволите ему этот скромный жест в качестве компенсации. Одежда, кстати сказать, совсем не ношенная. Если Вы пожелаете, он надеется, что Вы позволите ему компенсировать Ваши потери иным способом.
Мистер Кондусис не будет принимать личного непосредственного участия в мероприятиях, связанных с «Дельфином», и не желает впредь упоминания своего имени в связи с этим делом. Полномочиями вести любые переговоры от его имени на всех уровнях обладает мистер Гринслейд.
С уважением,
искренне Ваш,
М. Смитимен (личный секретарь мистера Кондусиса)».
– Невероятно, – пробормотал Джереми, глядя поверх очков.
– Вероятно. Очевидно.
Джереми еще раз перечитал письмо.
– Ну что ж, по крайней мере, он не хочет, чтобы ты к нему лез. Тут мы были к нему несправедливы.
– Он меня и видеть не желает, слава богу.
– Ты был страстно красноречив, мой бедный Перегрин?
– Да, я надрался.
– Мне вспоминается, – ни с того ни с сего произнес Джереми, – что он потерпел кораблекрушение на море.
– Кто?
– Кондусис, балбес. Кто же еще? На яхте.
– А его яхта называлась «Каллиопа»?
– Вроде бы да. Я уверен, что она потонула.
– Возможно, мое затруднительное положение напомнило ему о том неприятном происшествии.
– Знаешь, – сказал Джереми, – представить не могу, с чего мы так переполошились. В конце концов, ну что произошло? Ты осматриваешь допотопный театр. Падаешь в грязный колодец, из которого тебя вытаскивает владелец – мультимиллионер. Ты в своей манере увлеченно расписываешь грацию и совершенство театра. Он задумывается: прежде чем сносить, может, попробовать другой вариант? И отправляет тебя к своему клеврету. С чего тут распаляться?
– Интересно, понравится ли мне Смитимен, когда мы встретимся, и не почувствую ли я к Гринслейду неприязнь с первого взгляда. Или, конечно, он ко мне.
– Да какая разница? Ты придаешь слишком большое значение личным отношениям. Посмотри, как нелепо ты обращаешься со своими женщинами. Подозреваешь несчастного мистера Кондусиса в непристойных намерениях – а он на тебя и глядеть больше не хочет!
– Предлагаешь мне принять эту роскошную одежду? – недоверчиво спросил Перегрин.
– Разумеется! Грубо и неблагородно, да просто вульгарно отправлять обратно одежду с наглой запиской. Старичок хочет подарить тебе новую с иголочки одежду, потому что ты сгубил свою в его грязном колодце. Ты просто обязан ее принять!
– Если бы ты его видел, то не называл бы старичком. Неприятнее людей я не встречал.
– Ну и пусть, а тебе лучше привести себя в порядок, чтобы предстать перед Гринслейдом ровно в 11.30.
Перегрин помолчал.
– Пойду, конечно. Ты заметил: ничего о письме и перчатке?
– Ни слова.
– Я заставлю Гринслейда отправить их в музей Виктории и Альберта.
– Попробуй.
– Заставлю. Ну да, Джер, ты прав: к чему раздувать сыр-бор? Если по какому-то дикому капризу судьбы я смогу сделать хоть что-то, чтобы спасти жизнь театру «Дельфин», я буду считать себя щедро вознагражденным. Но все это, конечно, будет лишь маленькой странной интерлюдией; а тем временем перед нами новая пачка счетов.
– По крайней мере, – сказал Джереми, – какое-то время тебе не придет счет от портного.