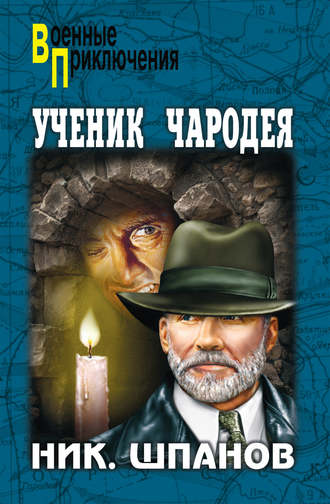
Николай Шпанов
Ученик чародея
Старый коллега просит услуги
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов Ян Петрович Мутный – рыжеватый блондин большого роста и крепкого сложения, с лицом такого цвета, словно он только что вышел из парильного отделения бани, – был человеком, вполне уверенным в своих достоинствах. То, что судьба занесла его в скромную контору на бульваре, где помещался Совет, представлялось Яну Петровичу досадным и лишь временным искривлением в его жизненном пути. Несколько извилистая дорога карьеры вела его к высотам, где не придется скучать над протоколами приходских советов или просьбами каких-то старух об открытии заброшенной церкви; не придется быть ходатаем перед советской властью за бледных бездельников, лишенных помещения для католической семинарии. Туда, куда были устремлены мечты Яна Петровича, не являются с визитами дружбы раввин и мулла; там не нужно отвечать за сборища баптистов и жать руки попам всех категорий и исповеданий. Одним словом, там жизнь его станет несложной и ясной, какой ему представлялась жизнь всякого, кто «достиг». Там, по мнению Яна Петровича, нужно только уметь приказывать с таким видом, будто ты уверен в безошибочности своих приказов.
В чаянии сугубой временности пребывания в Совете культов, Ян Петрович не обременял себя углублением в тонкости религиозной области, с которой приходилось соприкасаться. Он не читал ничего, кроме официальных писем из Москвы, и, как заразы, чурался не только старых изданий всякого рода религиозных организаций, но и тех работ о состоянии церковного фронта за рубежом, какие время от времени попадали к нему на стол.
Островом успокоения в море житейской суеты и непостоянства была для Яна Петровича его квартира – пять комнат на Александровской (именно на Александровской, а не на Бривибас и не на улице Ленина: Ян Петрович про себя всегда называл улицы по-старому, как они уложились в его сознании за десятки лет жизни в этом городе). Там, в этих пяти комнатах, царила благоговейная тишина, не нарушаемая крадущимися шагами полуглухой работницы. Старуха, как тень, скользила войлочными туфлями по глянцу паркета, навощенного до того, что он казался стеклянным.
Жена Яна Петровича, Бела Исааковна Беленькая, была женщиной молчаливой до мрачности. Так же, как он сам, она была довольна холодной тишиной квартиры. Она охотно поддерживала культ навощенного пола, накрахмаленных салфеточек на буфете, кружевных накидок на подушках широчайшей постели, прозрачных и твердых, как матовое стекло, оконных занавесей. Казалось, под суровым взглядом Белы Исааковны сами начинали блестеть огромный письменный стол, к которому никто никогда не присаживался; хрустальные бокалы на серванте, из которых никто никогда не пил; крышка рояля, на котором никто никогда не играл. Ян Петрович и Бела Исааковна в полном согласии друг с другом полагали, что порядок, тишина и крахмальный тюль занавесок, отгораживающий их от улицы, – это лишь малая доза награды, какая им причитается. Когда-нибудь народ еще возблагодарит их за невзгоды прошлого. Нужно было только набраться терпения и ждать.
Нужно отдать справедливость Беле Исааковне: на людях она не кичилась ни нынешним своим благополучием, ни положением своего мужа, как это свойственно некоторым, менее сознательным дамам. Единственным предметом ее искренней гордости, о котором не стыдно бывало иногда и напомнить, было для нее собственное прошлое. Не каждому довелось быть избитым в мрачном подвале рижской полиции, а ей пришлось побывать там и получить не один удар пряжкой солдатского пояса. Правда, ее скоро оттуда выпустили, так как выяснилось, что она была схвачена по ошибке, не имея в действительности отношения к студенческому кружку марксистов. Но, как это бывает с людьми, по мере движения времени одни обстоятельства стираются в памяти, другие остаются. Для нее стало ценным и дорогим воспоминание о трех днях, проведенных в полиции, твердый шрам на бедре – след удара пряжкой полицейского пояса.
Ян Петрович не чуждался того, чтобы на людях подчеркнуть свое пролетарское происхождение и трудовое прошлое. Он со сдержанностью, приличной положению и возрасту, изредка напоминал, как на широкой мускулистой спине поднимал по три пятипудовых мешка, когда был грузчиком в Лиепайском порту. Он ел все самое простое, что значилось в меню столовых, но дома с аппетитом обсасывал кожицу жирного угря, купленного из-под полы у рыночного спекулянта. Ни на людях, ни дома Ян Петрович демонстративно не пил ничего, кроме жидкого чая да по стакану кефира утром и вечером. Если ему хотелось выпить, как пивали когда-то лиепайские грузчики, он делал это так, что на другой день после возвращения «из района» даже Бела Исааковна слышала у него изо рта только запах жженого кофе.
При поддержке Белы Исааковны Ян Петрович вбил себе в голову, что никто не является в такой мере честным, последовательным и твердым защитником завоеваний революции и советской власти, как именно он. И уж подавно только он, и никто иной, стоит на страже политики партии в области культов. А так как политика партии в сложной религиозной области – лишь часть общей, еще более сложной политики внутри страны и за ее пределами, то Ян Петрович без запинки делал вывод: он, товарищ Мутный, призван блюсти интересы Советского государства и партии во всех областях жизни. Пока, находясь еще в Совете культов, он делал, правда, оговорку «когда тому придет время», но для его убежденности в своей высокой общественной ценности эта оговорка не была пороком. Она не вносила диссонанса в его душевный покой. Время для проявления всех его качеств политического деятеля и администратора высокого полета должно было вот-вот прийти: опостылевший Совет культов казался уже пройденным этапом. Со дня на день должно было состояться обещанное выдвижение Яна Петровича на пост руководителя промысловой кооперации. Дело было только за тем, чтобы собрался съезд кооператоров и дружно избрал его. Почему Яна Петровича влекло кресло руководителя кустарей? Да прежде всего потому, что, как ему казалось, из этого кресла он сможет попасть в следующее – повыше: в Совет профсоюзов. А разве не там, в профсоюзах, куются кадры? Чьи это слова: «Профсоюзы – школа коммунизма»? То-то! Вторым доводом, который он держал про себя, не высказывая его даже Беле Исааковне, было то, что именно в промысловой кооперации была заложена бездна возможностей для устройства быта. Кого-кого и чего-чего только там не было?!
Голова Яна Петровича бывала высоко поднята, походка тверда, движения солидно неторопливы, когда он совершал свою краткую утреннюю прогулку от квартиры до Совета. Иногда он позволял себе остановиться перед ювелирным магазином. Правда, только в том случае, если на улице виднелось не слишком много прохожих и среди них не было знакомых. За минуту – другую его вспыхивающий жадным блеском взгляд успевал обежать витрину. Все, что было на выставке, оказывалось мысленно оцененным и как бы зарезервированным на «лучшие времена», когда он или Бела Исааковна смогут без стеснения войти в этот магазин и взять все, что им понравится. Ян Петрович был почему-то уверен, что именно такая возможность явится одною из черт грядущего коммунизма, за участие в построении которого латышский народ все еще не отблагодарил его.
Если Ян Петрович стеснялся надолго задерживаться возле ювелирторга, то уж около книжного магазина он простаивал подолгу, хотя это и не доставляло ему удовольствия. Но нужно было, чтобы там его увидело хотя бы несколько служащих, спешивших на работу в соседнее здание Совета министров. Не прочитав за свою жизнь и десятка романов, Ян Петрович мог при случае перечислить массу названий, намозоливших ему глаза в витрине. Утвердив таким образом свою репутацию любителя изящной словесности, Ян Петрович степенно входил в подъезд большого жилого дома, где в скромной квартире помещался Совет культов. Там он сохранял строгость и солидную неторопливость с девяти утра до шести дня.
Он не видел никакой надобности менять в себе что-либо и из-за того, что сегодняшний посетитель, назвавший себя секретарше Антоном Стродом – представителем общины верующих католиков из Илуксте, вошел в его кабинет более развязно, чем входили обычно такого рода посетители. Строд положил помятую шляпу на стол Мутного и, прежде чем заговорить, подождал, пока уйдет секретарша. Но даже это не произвело на Яна Петровича особого впечатления. И только тогда, когда Строд наконец налег грудью на стол уполномоченного и тихо спросил, узнает ли его Ян Петрович, тот ощутил беспокойство. Вглядевшись в черты посетителя, он не нашел в них ничего знакомого. Нет, жизненный путь Мутного никогда не скрещивался с жизненным путем человека, назвавшего себя Стродом. Тем не менее смутный страх шевельнулся в душе уполномоченного. Он сделал рукой неопределенное движение, не то отвергая возможность этого знакомства, не то предостерегая посетителя от слишком громкого разговора.
Строд без возражений перешел на полушепот:
– Я вынужден освежить вашу память: союз портовых рабочих в Лиепае, связанный с социал-демократами. В активе союза был один человек по имени… – Строд на секунду умолк, испытующе глядя в лицо Мутного. Маленькие серые глазки уполномоченного испуганно забегали, потом укрылись за полуопущенными веками. Его красное лицо стало совсем пунцовым, но он продолжал молчать, словно лишившись дара речи. Тогда Строд, полагая, что не все еще ясно, договорил: – Разве того человека не звали Ян Мутный? – Потом одно за другим были произнесены имена социал-демократов, главарей желтого профсоюза, которых не мог не знать Мутный. При каждом имени посетитель загибал палец на руке, бесцеремонно протянутой над столом, к самому лицу Мутного. Но тот, казалось, уже не слышал ничего. Он, как зачарованный, смотрел на толстые пальцы Строда, постепенно сжимавшиеся в кулак. Они исчезали, как падающие вехи на пути к спасению. Яну Петровичу казалось, что в мозгу у него вдруг образовалась какая-то пробка, мешающая течению мыслей. Он силился думать о том, что же следует теперь предпринять, и не мог сдвинуться с места. Мысль вертелась все на одном и том же глупом пункте: «Какие у него большие и грязные пальцы… Боже, какие грязные пальцы!..» А Строд, казалось, угадывавший то, что творилось в трусливой душе этого большого, такого сильного на вид человека, беспощадно шел к цели. Он напомнил о забастовке лиепайских грузчиков и о роли тех, кто ее сорвал. О жертвах полиции, беспощадно разделавшейся с членами коммунистической оппозиции, и о роли «одного товарища», виновного в провале этой оппозиции. Строду было теперь безразлично, поверит ли Мутный, будто они когда-то встречались, и тому, что сам Строд якобы был когда-то социал-демократом, и даже тому, что Строд – действительно Строд. Все это уже не имело значения. Настолько тот гость, которого в действительности звали Квэпом, знал людскую породу: желание искать у советских властей защиты от шантажа будет у Мутного подавлено стремлением спрятать концы своего прошлого, когда-то трусливо скрытого от компартии.
Будь на месте Мутного другой человек, он, может быть, пошел бы и сказал «Да, Ян Мутный виноват перед партией. В моем прошлом есть то, чего вы не знаете». Тем более, что это прошлое не преследуется законом, что оно может быть вовсе забыто. Но уже то обстоятельство, что однажды оно было им скрыто из страха, будто помешает карьере, делало такого человека, как Мутный, жертвой собственной лжи. Такова логика обмана. Маленькая ложь становится со временем глыбой, погребающей под собою человека со всем лучшим, что в нем было, что еще оставалось и что еще могло в нем быть. Христианский постулат о существовании «лжи во спасение» – сам по себе такая же ложь. Все это хорошо известно всякому шантажисту. А шантаж – одна из отраслей профессии Квэпа. Поэтому Квэп и был уверен: Мутный не донесет. Он никуда не пойдет и окажет Квэпу услугу, о которой тот попросит в обмен на молчание.
– В Совете промкооперации, – сказал Квэп, – вас уже считают своим и охотно выполнят вашу пустяковую просьбу устроить меня на такую работу, чтобы я мог разъезжать. Инструктор-организатор или инспектор… Обещаю никогда не посрамить вашей рекомендации, – с кривой усмешкой сказал он. – И уж, разумеется, всегда готов исполнить все, что прикажете. – Квэп, прищурившись, посмотрел в испуганно бегающие глазки Мутного и вздохнул: – А ведь мало ли что может понадобиться человеку? Даже такому большому, важному и честному человеку, как Ян Петрович Мутный… Подумайте: пустяковая услуга старому коллеге и… покой навсегда.
Вечером дома Ян Петрович вел себя несколько необычно. Его состояние показалось Беле Исааковне настолько странным, что она даже заподозрила – уж не заболел ли он? Она предложила ему лечь, но он продолжал медленно ходить по натертым паркетам квартиры и блуждающим взором следил за тем, как дробится в их стеклянно блестящей поверхности его отражение. Отражение то становилось непомерно длинным, то сжималось до роста карлика. Но всегда оставалось отвратительно уродливым. Ян Петрович всматривался в него так долго, что закружилась голова.
Когда он улегся в постель, в мозгу продолжал, как раскаленный гвоздь, стоять один и тот же вопрос, который Ян Петрович напрасно пытался решить с момента ухода «Строда»: станет ли ему легче, если он скажет о случившемся Беле Исааковне?.. Но ведь если он расскажет об утреннем визитере, то придется рассказать и о том, чего она не знает: о прошлом, имеющем к революции лишь то сомнительное отношение, какое имела вся деятельность социал-демократических профсоюзов в буржуазной Латвии. Правда, жена – не партия. У нее нет власти отобрать у него партбилет. Вместе с мужем-лгуном и сама Бела Исааковна стала бы предметом общественного осмеяния: кто же поверит тому, что за пятнадцать лет совместной жизни она не узнала прошлого собственного мужа… И тем не менее Яну Петровичу было страшно: а что если Бела Исааковна пойдет и скажет все?..
Поворочавшись с боку на бок так, что Бела Исааковна снова спросила, не болен ли он, Ян Петрович наконец уснул.
Наутро он встал, как обычно, – спокойный, уверенный в себе. На службу шел неторопливой походкой с высоко поднятой головой. Постояв у окна ювелирторга, перешел к витрине книжного магазина, пока мимо него не прошло несколько знакомых из Совета министров. Тогда он степенно вошел в подъезд Совета культов.
Пансион «Эдельвейс»
Распорядок дня в «Эдельвейсе» был таков, что у обитательниц не оставалось времени на что-либо иное, кроме занятий, составлявших курс обучения в школе шпионажа и диверсий, прикрытой вывеской этого пансиона. Больше того, распорядок был составлен с таким расчетом, чтобы утомить «пансионерок» и убить у них самое желание заниматься чем-либо посторонним: подъем в шесть утра, к десяти вечера все лампы погашены; в течение дня полтора часа предобеденного отдыха. И даже то, что отдых давался не после обеда, а перед ним, должно было препятствовать появлению вредных мыслей, рождающихся на сытый желудок. К тому же отдыхать после еды значило нагуливать тело. А учащиеся должны были сохранять спортивную форму, подвижность и приятную внешность.
У большинства учащихся «личное» ограничивалось чтением легких романов, обсуждением виденных снов да время от времени ссорами, всегда происходящими там, где чувства и мысли вращаются в замкнутом круге. Но и в ссорах Инга Селга оставалась нейтральной. Она жила так, что, за исключением Вилмы Клинт, у нее не было друзей, за которых стоило бы вступаться.
Известно, что процесс обучения в такого рода заведениях отличается от всех иных учебных заведений. В «Эдельвейсе» не было больших аудиторий, не было классов или групп, в составе которых слушались бы лекции. Общение между преподавателями и учащимися происходило едва ли не с глазу на глаз. Двойка, редко тройка – вот и весь коллектив, восседавший перед педагогом. Будущие шпионки не знали, обучаются ли их товарки тому, чему учат их самих, не знали, кто их обучает.
Впрочем, Ингу по самому ее замкнутому характеру не очень-то и интересовала жизнь других пансионерок. С нее было достаточно собственных забот: добиться у инструктора-латыша хорошей отметки по физической подготовке и стрельбе, заслужить похвалу немца-радиста или русского белогвардейца – преподавателя языков – было ничуть не легче, чем заставить американского инструктора-парашютиста уважать себя хотя бы в той минимальной степени, чтобы он не выпихивал тебя из самолета толчком ноги ниже поясницы. Инге не нравился путь, каким ее товарки снискивали расположение преподавателей, – она не позволяла тискать себя в коридорах и не ходила в садовую беседку на свидания с иностранными инструкторами. Инга была упряма, терпелива и способна настолько, что классных занятий ей хватало для усвоения предметов. Замкнутость и отсутствие друзей избавляли Ингу от просьб о помощи даже со стороны Вилмы Клинт. К удивлению однокашниц, свободное время она тратила не на чтение бульварных романов, а на книги историко-религиозного характера. Из них наибольшим успехом у нее пользовались книги, относящиеся к истории возникновения и деятельности Общества Иисусова.
Никто в этом доме, от начальницы до последней горничной, не понимал, что Инга несет свою холодную замкнутость как щит от назойливого любопытства. В школе, где она обучалась до перевода в пансион «Эдельвейс», она познакомилась с парнем по имени Карлис Силс. За спиною начальства знакомство перешло в дружбу. Дружба – в любовь. Быть может, это прозвучит для читателей странно: любовь в среде, где все усилия воспитателей сосредоточены на том, чтобы научить ненавидеть, не верить, никого не любить, ни к чему не привязываться; в среде, где хороший балл можно заработать умением неожиданно нанести смертельный удар ножом, застрелить из-за угла, отравить. Но человек – существо удивительное, полное противоречий и неожиданностей. Там, где можно ждать душевных проявлений высшей красоты и тонкости, мы видим подчас величайшее уродство и зло; и наоборот, в окружении смрада и грязи взрастают цветы нежнейшей любви и душевная красота существ, казалось, навеки обреченных тьме порока, становится предметом воспевания для поэтов. Пусть тот, кто этому не верит, вспомнит величайшую трагедию о любви, когда-либо показанной искусством, пусть он вспомнит Ромео и Джульетту. Или среда, где жили изображенные Шекспиром нежные любовники, была лучше той, где томились Инга и Карлис? Или кровь Монтекки и Капулетти не лилась там из-за дури, владевшей главами домов? Не пускались в ход кинжал и яд, интриги и подкуп? Не царили вокруг юных любовников обман и предательство? Не бесчинствовали тираны, добывавшие себе средства для оргий торговлей рабами? Не неистовствовала инквизиция? Чума и оспа, чесотка и сифилис не были разве такой же непременной декорацией эпохи, как мандолины и серенады? Князья не душили своих жен, папы не сожительствовали с юными послушниками? И все-таки осталась образцом нежного благоухающего чувства на века бескорыстная и жертвенная любовь юных созданий – Ромео и Юлии. Так почему же она не могла расцвесть и ныне между двумя молодыми людьми, забывшими ласку матери, не знавшими родины, но обладающими такими же самыми сердцами, какие бились в груди Ромео и Джульетты?
Лишенные семьи с ее теплом и заботой, вырванные из нормальной человеческой среды, способной выказать немного внимания к мыслям и чувствам – ко всем проявлениям ума и сердца молодых людей, – Инга и Карлис с юношеского возраста, самого чуткого к внешним явлениям, самого восприимчивого к отраве порока, искусственно превращались в существ черствых, жестоких, лишенных каких бы то ни было интеллектуальных потребностей. И вопреки этому, вопреки воле своих воспитателей, они ко времени встречи все же оказались полны той удивительной чувствительности, когда прикосновение пальцев любимого существа заставляет звучать все струны сердца. Этого нельзя приписать лишь природному инстинкту влечения полов, потому что инстинкт в тех условиях мог бы проявиться и до плоскости примитивно. Это не было влиянием среды, потому что окружали их лица чужие, черствые, холодные, расчетливые и жестокие, порочные и беспринципные. Чувство Карлиса и Инги было закономерным проявлением жажды прекрасного, что живет с тех пор, как человек познал прелесть утренней зари и вечернего заката, красоту птичьих голосов в пробуждающемся лесу, ласковую песню рек, бодрящую силу рокота морского прибоя. Пополняемое из века в век усилиями искусства, прекрасное живет, умножается, растет и ширится, захватывая сознание людей. Жажда жизни заставила двуногое существо, питавшееся кореньями, несмотря на страх, искать битвы со зверем, пока оно не отведало мяса и не почувствовало себя сильнейшим на земле. Жажда тепла владела первобытным человеком, и он не успокоился, пока не высек пламени из кремня. Жажда красоты живет в нормальном человеке, увлекая его в мир прекрасного в чувствах и мыслях – во всех восприятиях ума и сердца.
Когда Инга узнала, что Силса отправят с заданием, она, несмотря на строгое запрещение видеться и говорить с ним, нашла его и сказала:
– Куда тебя посылают?
– Вот это чудесный вопрос! Учили тебя учили…
– Конечно, глупый вопрос, – согласилась Инга. – Но… мы же должны быть вместе?
– Должны! – ласково передразнил Силс.
– Так почему же они не могут послать меня с тобой? Разве я не могу стать твоей напарницей?
– Можешь, именно можешь, – ответил он, беря ее руки в свои. – Если бы это… – Он не договорил и потянул Ингу к себе. Но она оттолкнула его.
– Я пойду к ним, скажу им, что я…
– Молчи! – Силс в испуге зажал ей рот: – Если ты скажешь это им – нам уже никогда не видеться! Именно: никогда!
Инга прильнула к нему и зашептала торопливо, так, что он едва разбирал слова:
– Там тебя не должны поймать и уличить как преступника. Понимаешь? Ты должен ждать меня.
– Ждать тебя? – с удивлением прошептал он.
– Если они не пошлют меня, я убегу сама…
– Молчи!
– Убегу, – настойчиво повторила она. – И мы будем…
Он прижал ее к себе.
– Глупенькая… Именно глупенькая. Кто же выпустит тебя?
– Я сказала: убегу… Ты знаешь меня, Карлис. И ты должен ждать. Спрячься так, чтобы никто тебя не нашел. Только я буду знать, где ты. – Она шептала словно в забвении. Губы помимо воли произносили то, чего хотело сердце.
Силс обхватил ее шею.
– Именно, глупенькая, – ласково повторил он. – Я же буду там не один. – Он едва не произнес имени напарника, но вовремя остановился: никто, кроме двоих, засылаемых в Советский Союз, не должен был знать их имен.
– Кто?.. Скажи кто? – Ее губы касались его губ. – Кто?
И так же губы в губы он прошептал:
– Круминьш.
Она еще крепче прижалась к нему всем телом, и ее губы прильнули к его губам.
Весь дом уже спал, когда Инга неслышно прокралась в комнату, где жила вместе с Вилмой Клинт. Разделась и осторожно разбудила подругу:
– Подвинься
Вилма поняла: Инга хочет сказать что-то очень тайное. Так, лежа в одной постели и накрывши головы одной подушкой, они могли шептаться без страха, что их услышат шпионки матери Маргариты. Ни у кого из живущих в этом доме не было уверенности, что в стенах нет отверстий для подглядывания, что под мебелью или в вентиляционных решетках не стоят аппараты подслушивания. Мать Маргарита желала знать каждое слово, произносимое в доме, хотела знать все, что делают и что думают ее питомицы.
Но ни ушам шпионов, ни аппаратам подслушивания не удалось рассказать матери Маргарите, о чем шептались той ночью Инга и Вилма. Когда дежурная надзирательница, словно невзначай, заглянула к ним в комнату, обе пансионерки лежали в своих постелях и самое чуткое ухо не обнаружило бы ничего неестественного в ровном дыхании спящих.
Месяцы прошли с той ночи. Эти месяцы кажутся Инге годами. Но она помнит каждое слово, произнесенное тогда, она помнит каждую черточку в лице Карлиса Силса, которого ей больше не удалось увидеть до отъезда. Может быть, его и увезли из школы именно потому, что начальство узнало об их встречах?.. Может быть, и ее потому же перевели в этот новый пансион матери Маргариты, похожий на каторжную тюрьму? Нет, вряд ли: ведь они с Карлисом вели себя так осторожно. Она с Карлисом и Вилма с Эджином. Но вот оба они – Карлис и Эджин – исчезли в необъятных просторах Советского Союза. Что с ними? Правда ли была написана в «Цине»?
Карлис, наверно, потому и явился к советским властям, что помнил ее слова. Вероятно, было уже невозможно скрываться без риска быть убитым. Потому и явились, что хотели дождаться ее и Вилму… И что же дальше?.. Смогут ли они с Вилмой когда-нибудь очутиться там, где Эджин и Карлис?.. Ведь если они знают про их любовь, то будут держать ее здесь или пошлют совсем в другом направлении, лишь бы она не встретилась с Карлисом. А она должна с ним встретиться. Должна!
Думать об этом Инга решается только по ночам. Днем она – по-прежнему примерная ученица. По-прежнему молчит и ни с кем не ведет дружбы. А Вилму исключили из школы и куда-то услали, когда пришел этот номер «Цини». Значит, они узнали про их любовь – Вилмы и Эджина? А ведь если они узнают и про Ингу, ее тоже пошлют куда-нибудь, куда спрятали Вилму… Или… может быть, просто «уберут»? Тогда уже не о чем будет думать… Но пока она думает и думает; думает каждую ночь о том, как сделать, чтобы быть вместе с Карлисом?..







