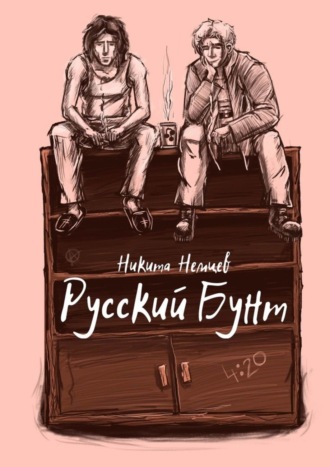
Никита Немцев
Русский бунт
4
А бородой своей Шелобей так не озаботился: так и ходил с клыками да просекой – пока не отросло.
Всё улыбаясь, я постучал стопку об стол и отхлебнул простывший чай. Взял на руки кошку Варьку (белая в чёрных пятнах – или наоборот) и покружил с ней по комнате. Улёгся с ней на диван – наглаживал и приговаривал, какая она хорошенькая. Потом мне надоело, и я сказал:
– Моя ненаглядная, милая, сдрисни, пожалуйста.
Она убежала. Зазвучала «Волшебная флейта».
Нет, я не чувствовал себя глупо. Я чувствовал себя очень-очень умно́.
III
Крутясь среди битников, музыкантов и наркоманов, Лида завела пропасть друзей (особенно, на кладбищах), – а вместе с ними и историй.
– …И вот вваливаются туда мусора… – Речь шла о притоне где-то на «Полянке», вернее, это был подставной притон, настоящий – располагался в подвале через дорогу, его держали чечены, которые взяли в плен дочку одного из ментов, так что тем ничего не оставалось, кроме как организовать свой притон, чтобы переманивать клиентуру, шантажировать чечен и устраивать налёты, так вот, дело происходило в настоящем притоне, где ошивался Лукич, Лидин друг, которого она пришла звать играть в «Сегу». – Влетают, всех мордой в пол, орут: «Кокаин, героин, наркотики – где?». А Лукич стоит у стенки, ржёт. Менты ему: «Чё ржёшь? Весело тебе, да?» А он аккуратно такой достаёт правый глаз и водит им по сторонам: «Сейчас-то мы посмотрим, где эти наркоманы!» Никто же, блин, не знал, что глаз у него вставной. Но это ещё фигня. Настоящий атас начался, когда подъехал Метадон Кихот…
Эту историю я слышал уже в пятый раз.
Её лицо напоминало водопад: постоянное движение, непрерывный поток: глаз следит за одной деталью, за одной эмоцией – она уже улетела: глаз ловит другую, ловит третью, – но убегает и она.
Раз – карикатурная героиня мультфильма, не то белочка, не то птица, да нет же, утка! это утка, ко… Два – обиженная Джульетта Мазина детски надула губы и вот-вот ска… Три – древнегреческая богиня воздела кверху нос и обкусывает щёки изну… Глаза – серо-голубые… или же серо-зелёные? чтобы разгля… Губы – роскошные, налитые и полные тай… Нос – видный, несерьёзный и гордый… да какой же он гордый? он… нос… сон… кра…
Если же говорить о волосах, то Лида носила ладно сплетённые дреды (они пахли сладко и затхло) – их-то мы и красили теперь в рыжий цвет.
– А сегодня мне звонила женщина по имени Одиссея Петровна, прикинь? – (Лида работает в турагентстве.)
Провозились ужасно – два раза я сжёг ей волосы начисто: получался не янтарь, не оникс и не скромная календула, а какой-то колбасный цвет. Но Лида не огорчалась, не мешала и всё рассказывала.
Автостопы, крыши, походы, горы, жизнь в палатке, в лесах, в пустыне, на Крайнем Севере, на Камчатке, в Ростове, музыкальные фестивали, где можно целый день идти и не дойти до края – всё это было. Пять лет назад. Три года назад. Два.
– Вчера попробовала пива выпить. Ну – думаю – совсем я старуха, что ли, пиво не осилю? – Она сидела с полотенцем на голове и кофе в руках. – Две бутылки, ничего же не случится?.. Ага! Блевала дальше, чем видела! – Она коснулась чашки губами. – «Господь мне здоровье дал, а я его – просрал».
Я отпросился с работы, чтобы пройтись немного с Лидой. Мы шли по Бибирево, всё дальше и дальше уходя от салона красоты «Надежда».
– Ненавижу зимнюю Москву, – поморщила нос она. – Обязательно смоюсь на Новый год.
Раззимело: под ногами черно и хлюпает. Ленивый, как бы неохотный снег – падает и тут же тает от бессилия. Серые многоэтажки наступают, серый асфальт проглядывает тут и там, серые лужи вздрагивают, серо-серые окна, осерённое серостью небо, иссера-серые лица. Бибирево – столица серого цвета.
– Давай, что ли, в центр? – предлагает она.
Я невольно киваю. Лида продолжает вспоминать что-то своё:
– …Ну да. А когда мы понимали, что человек вот-вот отъедет, мы выносили его в подъезд и вызывали «скорую». Веществ-то полон рот, а присесть никто не хочет.
– Жёстко.
– Во-во! Но некоторых даже спасли. – Она подняла пальчик.
Убогий, угрюмый, ненужный простор вокруг – разостлался. Вон – двое пьянчужек мило привалились в беседке и курят. Дворами на Костромскую – там семиглавый храм, отстроенный бывшим бандитом во очищение души: синие и золотые вязаные шапки: дылда, крепыш и двое на подхвате – башенки напоминают братков. А там – во-о-он там, за жэдэшкой, – вот-вот вздыбятся красно-белые заводские трубы, изрыгающие бесконечные облака. И снег – под этим тусклеющим небосводом – то сумрачно оседает, то лупит по лицу. Он пепельно-сер – как будто Господь затушил сигарету.
Показалась красная «М».
– Ненавижу метро, – бросила Лида и спрятала шею.
Стеклянные двери, сшибающие ветром, обыскивающие лица работников, антитеррористические рамки – всё это правда неприветливо.
Мы спускаемся на эскалаторе: Лида стоит ступенькой выше, я еду спиной. Она отболталась – молчим неловко. Приходится говорить мне:
– Шелобей как-то мысль бросил, что Московское метро – это соборность по-советски: всем тесно, всем плохо, у каждого во рту нога его соседа. А искусство – на службе у народа… Ну, станции, то есть.
– Ну да, – говорит она и отстукивает ноготками по поручню. – Не люблю «совок».
Эскалатор кончился, поезд подошёл: вагон гудел и дребезжал. Мы стояли, забившись в угол, и слушали Лидины наушники (хороший способ не говорить и не пялиться в душные лица). Какой-то краут-рок – или типа того.
Вышли на Цветном бульваре – сразу на Садовое. Прощальные блики в окнах. Солнце, пока! Мы налево, ноги просятся вправо. Поздно. Синие сумерки насупились.
Слева – стройлеса в гирлянде. Справа – бесполезная эстакада. Машины, пыхтя, стоят в пробке. Мы их обгоняем.
– Мне нужно зайти в магазин, – сказала Лида.
– Окей, – сказал я.
– «Мир музыки», Садово-Триумфальная, – сказала Лида.
– Почему не до «Чеховской»? – сказал я.
– Пройтись, – сказала Лида.
Мы шли.
Наш бойкий шаг по зимней каше разглядывают неважного вида дома. В центре – реагенты. В центре – лужи. В центре – бесснежье. Башня – впереди: неосталинизм из пластика зажигает огни: вдруг – верхушка становится красно-сине-белым флагом.
– Первый панк был Аввакум, – сказал я.
– Да ну. Он же чисто нифер, – сказала Лида.
– Ну тогда Христос, – сказал я.
– Ты чё. Христос был хиппарём. Не, я конечно понимаю: чем мы, хиппи, не панки… – сказала Лида. – Не люблю Москву зимой.
– Такую никто не любит, – сказал я. (А сам подумал: «Вот бы зима не кончалась никогда». )
– Зимняя Москва – это ловушка, – сказала Лида.
Заговорили о Depeche Mode. Запахло говном. (Канализация.)
Пешеходы неслись по широкому тротуару на скоростях настоящего хайвэя. Большой Каретный, Лихов переулок, Каретный ряд – школьники, побрякивая ранцами, обогнали нас.
– В среду буду говорить с раввином, – сказала Лида.
– О чём? – сказал я.
– Об эмиграции, – сказала Лида.
– Зачем? – сказал я.
– Жить хочу уехать, – сказала Лида.
– А Шелобей? – сказал я. – Осторожнее на переходе!
Желтобокое таксо пронеслось безоглядно.
– Если хочет, – сказала Лида. – Если хочет – вместе поедем.
– Ты ему об этом говорила? – сказал я.
– Нет, – сказала Лида. – Это же очевидно, – сказала она.
Чёрный слепок шины на асфальте. Профиль Лиды трёт нос и чихает.
– А в том переходе мы амфетамин варили, – сказала Лида.
– Да ладно? – сказал я.
– Ну да, – сказала Лида. – Всё было, а варить негде – пришли сюда: сели, прикрывшись картонками.
Я не поверил, но не сказал.
Забежали в «Мир музыки». Нам нужно казу! Здесь вообще-то не зоомагазин! Дудочку казу! Что же вы сразу не сказали? Спешим! Куда мы спешим, Лида? Потом скажу!
– Лид, я ж ненадолго отпросился, – сказал я.
– Не ссы, – сказала она.
Толстый лысый дядька, идя мимо роялей, уже несёт ей дудочку странной формы: эсминец с приделанным раструбом: ка-зу.
Выбегаем на улицу. Снег перестал. Машины едут и матерятся.
– Точняк! Мне ж Пузу джойстик отдать надо! – сказала Лида.
– Какому Пузу? – сказал я.
Пузо ждал на Пушкинской площади. Мы были в километре от неё. Велосипеда под рукой не оказалось – ломанулись через переулки.
Печально длинный бирюзовый дом: один этаж. На подкрышке – сосульки расплакались. Поворот. Проход. Ещё поворот. Везде одно и то же: путаный клубок и хаос домов.
– Мы заблудились, Эл! – сказал Лида.
– Не боись! – сказал я.
Обломки красного лезлого кирпича – что-то сносили. На боку дома незакрашенными кирпичами нарисован уже снесённый корпус: башенкой. Где-то у её глотки – граффити: ЗАЧЕМ?
Постояли.
Посмотрели.
Низачем. Дальше!
Старопименовский переулок.
– А что с работой? – сказал я.
– Работа – такое барахло, – сказала Лида.
– В смысле? – сказал я.
– Заработать денег на отпуск, заработать денег на пенсию, заработать денег на гроб, – сказала Лида. – Угар, ага.
– Такие дела, как сказал бы Воннегут, – сказал я.
– Ты вообще не работай, – сказала Лида. – От этого появляются деньги, – сказала она. – А с ними – несчастье.
В двух шагах от нас – убегала Тверская. Москва – циферблат часов на волосатой руке сомнительного господина: Тверская – минутная стрелка, Арбат – часовая. И тянется стрелка поджарая – крутится, спешит! спешит жить, раскидывает по бокам магазины, прохожих, гоняет туда-сюда дорогие, дешёвые автомобили; особняки, товарищи, снобы-модернисты – такие дома.
Фонари зажглись украдкой: гирлянды развисли по ним – да это же бокалы медовухи! – нам некогда пить.
У похожего на аккордеон дома «Известий» нас поджидал Пузо. Глаза красные, борода безобразная, сам – тоньше, чем спичка. Он закатывал рукава и штанины, снимал шапку и снова надевал, – не прекращая, он чесался, самым основательным образом.
– Ты чего чешешься? – сказала Лида.
– Давно не мылся, – сказал Пузо.
Лида всучила ему одолженный когда-то сто пятьдесят лет назад джойстик, схватила меня за руку и потанцевала дальше.
– А давай на качели, на «Маяковской»? – сказала она.
– Лида!.. – попытался сказать я.
Через дорогу от нас старички играли сёрф.
Огромные, неуклюжие качели – напротив консерватории. Памятник Маяковского раньше не был такой огорошенный: поставили качели – стал.
Даже оказались свободные. Раскачиваемся сильно и весело. Вдруг – ноги задраны кверху. Падаем, падаем! Бух! Прямо на спину. Смеёмся.
Дальше.
Теперь в синагогу. Знакомыми переулками – не попасть на Патриаршие! только не на Патриаршие! – (там скука) – выходим к Большой Бронной. Студенты спросили, как пройти к легендарной чебуречной на «Тверской». Вот так, вон туда, а потом налево. Не за что!
– Мы с Пузом как-то на Байконур пролезли. Смотрели, как ракету пускают, – сказала Лида.
– Прикольно, – сказал я.
Красный свет, передышка (Лида никогда не идёт на красный свет; а вдруг дети? а как им объяснишь? что взрослым можно, а им нельзя? но опять ложь получается и как всегда). Водопад продолжает движение: она дует губы смешливо.
– Ну, рассказывай, – говорит Лида.
– Что рассказывать? – говорю я.
– Всё рассказывай, – говорит она.
Зелёный свет. Слава Богу, можно не рассказывать!
За пуленепробиваемым – с наклоном – стеклом спряталась звезда Давида: тут квартируют хасиды. Лида забежала и сказала ждать.
Я пинал камешек. В этих районах снуют деловитые люди с кейсами: у них можно стрельнуть «Кэмел» или «Парламент» – если повезёт. Хорошо, что не курю. Хорошо, что это в прошлом. Хорошо, что прошлое прошло. Прошло – и ничего не происходит.
Лида выбежала – двинулись дальше.
– Ты с раввином говорила? – сказал я.
– Нет, книжку купила, – сказала она.
– Какую? – сказал я.
– «Хасидские истории», – сказала она. – Мне вообще стрём говорить с раввином. У меня ж татуировки. А это как бы нельзя.
Особняк с готическими понтами, хилый ажурный домик… Здесь начинаются тихие, дряхлые районы. Мимо Шолом-Алейхема, в узкий, скупо освещённый проход. Жёлтая церковь, где Пушкин венчался. Ножовый переулок – маленькие солдатики на козырьке. Поварская – концертный зал: неземное «до» уносится вверх.
– Короче, у ребят дэрэ, мы поздравимся и пойдём, – сказала Лида.
– Подожди. Подожди. Стой, – сказал я.
Хлебный переулок, самый его конец. Стоять у двухэтажных сизых домиков, прямо на проезжей части (машины тут не ездят – брезгуют): возле Исландского посольства и непонятного бетонного гроба, взглядом следуя за вихором нанесённого на мокрую дорогу снега, – натыкаться на сталинскую высотку, густо пожелтевшую, чёрным небом объятую. И тишина. И далёкие отзвуки голосов, машин, музыки. Как будто кто-то заводит граммофон. Как будто очень старая Москва. А оглянуться – там перспектива фонарей и старичок с старушкой, дрожа, переходят дорогу.
– Если бы палатку можно было ставить не в поле, а в секунде – я бы поставила её прямо здесь. – Лида улыбалась. – Хорошо же не работать?
– Хорошо, – сказал я.
И понеслись.
IV
Давно не нападала я на мысль, чтоб написать к тебе, мой милый, милый друг. А кажется – писать и не об чем. Тоска всё, глушь, да всполохи чего-то ещё более безнадёжного. Жалобами херить дружбу – возвышенности мало, событий же, чтоб поразвлечь тебя, я предложить и вовсе не могу, Петербург на удивление скучный город. Но вот – решилась поразмять перо с твоего любезного (пусть молчаливого) согласия.
Я, наверное, писала, что стала ловить себя на мысли – нет, ощущении, – что мне неинтересно засыпать. Я написала всё не так: нет, просыпаться мне нисколь не интересней. С самого начала весь день прочерчен и отвратительно ясен. Прогулка до Академии, несколько безотрадных часов за партой, а после – работа. Ещё есть выходные, но вернее было бы говорить об их отсутствии – ведь всё «свободное» время поглощает учёба. Ах, если б можно было так добиться, то я вечно бы гуляла да рисовала (в этом отношении, я, можно сказать, фланёр) и ничего сверх этого не надо. Ты же знаешь, я некутящий человек. Хотя давеча изволили вытащить вот-с.
Ты уже, чай, забыл, но угол я нанимаю всё там же: на пересечении Гражданской улицы и Столярного переулка. Это удивительное место – других таких в Петербурге нет, говорю тебе самым ответственным образом. Что, по-твоему, такое Петербург? Прямые стрелы проспектов и роскошь покорённых просматриваемых пространств. Моя же лачуга (будем называть вещи своими именами) умостилась в единственном на весь Петербург месте, где, ежели встать на перекрёстке, при взгляде на любую из сторон глаз упирается в тупик домов. Сущий каменный мешок! Добавь к этому свинцовые облака, низкорослую неумытую архитектуру квартала – и уверишься, что верёвка с мылом далеко не худшая из перспектив (не волнуйся, я уже давно решила сей вопрос отрицательным образом; да ты, впрочем, знаешь). Вдосталь к тому путь до Академии немногим короче Ломоносовских вояжей – до Таврического и даже далее (после тех ужасных терактов в метро передвигаюсь я исключительно пешком; а впрочем, иногда соглашаюсь на трамвай). Не буду хотя лукавить – вся невыгода моего места жительства отлично искупается очаровательной столовой, что напротив «Дикси». Завтраки мои редко обходятся дороже ста рублей… Но эти подробности в обиду москвичу, прости.
И всё равно, люблю Петербург и ни на что другое его не обменяю. Пусть ложь, пусть обман, пусть не то, чем кажется, – а всё-таки люблю. Идти каналом Грибоедова люблю: следовать его задумчивым изгибом, весело поглядывать за оградку на лучистые блики отражений в чёрной неприветливой воде. Читать книжку на скамеечке в Нескучном люблю. Стоять на Стрелке, где-нибудь осенью и от морской красной колонны спуститься к воде, разглядывать: Нева ёжится, колышется, ленится просыпаться; вместо неба – живот белой кошки (нежный и с розовым); над Петропавловской – чинный разлёт воронов, а из-за так и не выросших за сотни лет домов прорезается утро. Или тут же – в двух шагах – меж строгих логарифмических линеек Васильевского острова, приютился двор-колодец, куда всегда приятно заявиться: а там дома сбились в кучу в жалкой попытке согреться – серый отец, розовый малыш и бежевая мама…
Да, всё это стоит жизни, милый мой. Но если принесёт тебя опять нелёгкая в наш север, не поддавайся уговорам бабушек, что торгуют носки и сигареты, не обольщайся пышностью проспекта, не влюбляйся в кротость переулочков, не свешивай через забор к воде канала свой любопытный нос! Весь Петербург – один сплошной пьяный немец и больше ничего.
(Увлеклась весьма, прости.)
Так про кутёж. Случился день рождения одного из наших: забияка и повеса, каких ещё надобно поискать. На всякий случай (он выглядит многообещающим молодым человеком) сохраню его инкогнито и умолчу фамилию: буду писать попросту – Борис. Я была согласна на привычный распорядок: вялый кивок однокашникам, движение ручкой и быстрые шаги прочь по набережной. Но пресловутый Борис вцепился мне в воротник:
– Таня, блин! Первый раз в жизни о чём-то прошу!
Я напомнила ему про ручку на экзамене, Борис задушевно посмеялся, но воротника не отпустил. Ты знаешь нашу зиму: ветер гулял из самых лютых, так что без воротника мне было никак нельзя – я согласилась.
– Но только если соизволите позвать также и Артёма, – прибавила я, заметя, что Артём виновато сложил руки перед собою (всё это происходило на крыльце).
– Уж соизволим, сударыня! – Борис отвесил мне поклон.
Непонятной и странной гурьбою в шесть человек, состоявшей из привычной компании Бориса и странного неуклюжего довеска в виде нас с Артёмом, мы вышли на Шпалерную, а после и на Литейный проспект. Мрамор домов сопровождал наш нестройный шаг, вечер смутно и бессмысленно стремился к ночи. Я не участвовала в общем разговоре (хотя иной раз молодые люди старались явно для меня) и только разглядывала досужие вывески. Попадались и забавные…
– …А я ему говорю: «Место мусора – в мусоропроводе», – кто-то из наших окончил анекдот, поднялась волна смеха.
Тротуары скользят, грязные и узкие от автомашин, спины моих однокурсников сутулые и пухлые от неуклюжих курток. Истории Бориса едва долетают до моих ушей. Луна, утирая платком лоб, выходит из-за туч.
Я шла самой настоящей изгнанницей, держа руки в карманах, и всё поджидала поворота на Пестеля, чтобы сказаться больной и покинуть недрузей. Когда же поворот настал – я ощутила странное смирение, даже сказать, почувствовала, что проиграла. Я вдруг поддалась капризу посмотреть, что будет далее, и уже не мешала ногам нести меня вперёд, вместе с ними, до улицы Жуковского и заведения «Синий Пушкин».
Внутри пьяные люди толклись в суматохе, и кто-то даже пел караоке (странная забава). Супротив наших воль, меня и Артёма уболтали выпить по рюмке коктейля «Боярский» (вынуждена признать, это было совсем даже неплохо). Сам именинник пропустил три или четыре рюмки (воскликнув на последней: «Тысяча чертей!») и наша компания, малость пошатываясь, стала искать дороги на улицу. В магазине мы прикупили литр чего-то крепкого и сладкого (с угрожающим оленем на этикетке) и уселись распивать на скамейке прямо под затылком Маяковского.
– А как закончите – куда срулить думаете? – вопросил Борис в пышной куртке у всех, отправляя бутылку по кругу.
– Да дальше служить, чё, – отвечал один, прилепляясь губами к горлу.
– А у меня у бати типография, – сказал другой, как бы похваляясь.
– Эх-ма! – заявил Артём мечтательно (но только очень тихо).
Я вглядывалась в затылок Маяковского, курила чью-то сигарету (ты знаешь, я это не люблю) и водила сапожком по сизому песку.
В паутине проводов над нами раскачивался фонарь.
– Царю-батюшке служить? – спросил Борис (довольно лукаво).
– А кому ещё? – бросил кто-то.
Я зачем-то представила себе освещённый штык Адмиралтейства…
– Ну как же. Себе. – Борис всё улыбался.
К нам подошли полицейские (бутылок никто не таил). Разглядев наши студенческие, заулыбались и попросили уйти куда-нибудь ещё. А то дети, коляски – и всё прочее, что говорится в подобных случаях. Нужды упрашивать нас не было – бутылки звенели последними глотками.
Названия и адреса следующего заведения не упомню, но там я пила самбуку, а также вдыхала её пары (премилая вещица!). Ещё зашли куда-то на улице Н—а и на улице Ч—а. Мы с Артёмом были немало поражены таким способом проведения досуга (Борис оглядывал нас покровительственно).
Потом… Да-да, потом нас принесло на Думскую (инфернальное место). Забившись в угол, я терроризировала Артёма беседой о Толстом.
Принципы мои остаются те же: искусство наше кончилось вместе с Серебряным веком. За всплеском равновеликих и равноталантливых (потому-то и не получается выделить кого-то одного) проследовала глухая и чёрная пустота. Да, несколько звёзд продолжали свой путь по стылому небосводу, – но непростительно короток был их путь (если не биографически, то художественно). Читала я современные романы… Не понимаю я их. Немного Сорокина, немного Пелевина – как будто картонку прожевала…
– Для меня Толстой слишком жёсткий, – говорил мне Артём, настолько захмелевший, чтобы начать говорить. – Я прям проваливаюсь в этих персонажей, в эти описания… И так жалко становится… Не, лучше вообще не читать – реально тебе говорю.
– Да пойми же ты, угловатый мой друг! – Выпитое понуждало к нежной фамильярности. – Сила искусства не в том, чтобы переноситься в миры, а в том, что можно поговорить с человеком, которому так же больно, как и тебе.
– Но мне не больно! Это Толстой воду мутит.
Меж нами вклинился Борис и опёрся о наши плечи.
– Вы что – больные? Там двадцатилетние тёлочки и пацаны дэнсят, а вы тут о Толстом трёте??
– Борис, любезный, будем честны, что твои «тёлочки» и «пацаны», что наш Толстой – одинаково эфемерны и исполнены ложных надежд. Но Толстой, по крайней мере, не может так разочаровать и измучить.
Борис навалился нам на плечи и низко-низко опустил голову в смехе. Он заказал нам ещё по стакану и похлопал по моему плечу со словами:
– Блин, Тань, почему мы раньше не общались?
Пора расходиться давно уже приспела, однако ж мы с Борисом вышли на улицу покурить по совершенно излишней сигарете. Я его просвещала в вопросах литературы, он меня – в вопросах карьеры.
Кругом торжествовало неистовство. Некий молодой человек (довольно вшивого вида) пытался выменять у меня сигарету на салфетки, которые он, по собственному чистосердечному признанию, где-то украл, другой стоял подле нас и вдыхал воздух из белого шарика с явно безнравственными целями, третий без рубашки катался на голом асфальте и продолжал дикий танец (этот, признаюсь, даже напугал меня). Затем проехала длинная машина с навроде люка наверху, из которого торчала барышня в вульгарном платье. Она сперва кричала о том, как всех любит, а после запустила бутылкой шампанского невдалеке от нас с Борисом. Внезапно мне сделалось дурно, пусто и непонятно. Наскоро пожав Борису руку, я ещё раз поздравила его и поспешила ретироваться.
Из разу в раз я сама избираю одиночество, ты прав. Но подобный коллектив я нахожу лишь прискорбным.
Фу ты, пропасть! О столь пустяковом приключении написала уже три листа? Должно быть, я составила тебе страшную докуку! Прости, мой дорогой, – это всё кислое похмелье, от которого в приюте убогого чухонца и спасаться некуда: тут хочется ловить отражения звёзд в лужах, улетать через форточку прочь и строчить многословные эпистолы. Не сердись же на меня, а лучше расскажи, как обстоят дела в Москве. Кутёж ваших пройдох достойнее, чем наших? Тоска у вас той же цветовой гаммы или, может статься, возможны градации? Я слышала, страна наша велика и депрессивна…
P.S. А про Вагинова ты говоришь изрядную чушь. Писатель это не второго и даже не третьего ряда. Мало того, что он не умеет построить увлекательный сюжет, заменяя его маловразумительными посиделками, выпивками и прогулками под блёклые пейзажи Ленинграда, так он ещё и в изысках своих удивительно банален.
P.P.S. Странно. Кажется, я не люблю Москвы за то, что у вас не было блокады: так неудачливый старший брат не любит ушлого младшего. Согласна, всё это от меня очень далеко, но когда случается настоящая зима, когда снег и тридцатиградусная стужа – особенно с утра, – мне всё кажется, что город мёртвый, а куда ни ступи – везде кости человеческие. Тут и в себе мертвеца заподозрить недолго…
P.P.P.S. Ещё подумала: чтобы купить проезд в Москве петербуржцу нужно продать свою малую родину (разумею банкноты).
P.P.P.P.S. Небо такое синее-синее. Ещё за ночь снегу выпало. Смотришь на стену – как будто синей ручкой в белой тетрадке намалёвано: такие цвета. Ты бы видел…
P.P.P.P.P.S. А Артёму в итоге нос сломали: он чью-то барышню, кажется, поцеловал, из-за этого поднялась суматоха, драка, а кого-то забрали в отделение: никто ведь не знал, что мы из академии ФСБ.
P.P.P.P.P.P.S. Ты приезжай к нам в это лето, как с защитой покончишь. Ты диплом ещё не начинал? Как твои литературные экзерсисы поживают?
Твоя Тани
Я сидел на кухне, пил чай, наглаживал кошку и перечитывал письма своей петербургской подруги. Это она предложила – писать друг дружке бумажные письма. Разумеется, я с радостью на это дело закивал.
А в то лето я к ней так и не приехал.





