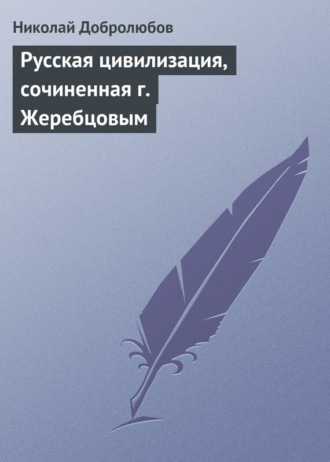
Николай Александрович Добролюбов
Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым
Как же это у нас-то так сильно развилась любовь к общему благу? – спросим мы г. Жеребцова с братиею. Откуда ей было взяться у нас, если знания у нас распространены так мало, по собственному сознанию автора «Опыта», – сознанию, вполне согласному с действительностью? Или г. Жеребцов и все, признающие справедливость его мнения, понимают под любовью к общему благу; что-нибудь другое, а не то, что следует; или в их суждении находится явное и грубое противоречие. Чтобы понять общее благо, нужно много основательных и твердых знаний об отношении человека к обществу и ко всему внешнему миру; чтобы полюбить общее благо, нужно воспитать в себе эти здравые понятия, довести их до степени сердечных, глубочайших убеждений, слить их с собственным существом своим. Но и этого еще мало отдельному человеку для того, чтобы по идее любви к общему благу расположить всю свою деятельность. Тут уже силы одного человека ничтожны: нужно, чтобы большинство общества прониклось теми же убеждениями, достигло такой же степени развития. Тогда только можно сказать об обществе, что в нем действительно распространена истинная любовь к общему благу. Но сказать это об обществе, в котором сам же признаешь недостаток распространения даже элементарных сведений, значит сказать горькую насмешку…
Нам могут заметить, что предъявляемые нами требования никогда и нигде еще не были выполняемы. Мы это знаем и не хотим указывать русскому обществу какие-нибудь идеалы в современных европейских государствах. Но мы не думаем, чтоб этим уничтожалась истина наших слов. Мы ставим мерку: пусть никто не дорос до нее, все-таки по ней можно судить об относительном росте каждого. А по фантастической черте, проведенной г. Жеребцовым в воздухе, ни о чем нельзя судить.
Мы предвидим, впрочем, что приверженцы взгляда, излагаемого г. Жеребцовым, скажут нам, что любовь к добру есть чувство, врожденное человеку, и от знания не зависит. Мы готовы согласиться с этим, потому что сами определяем природный эгоизм человека стремлением к возможно большему добру. Но тут, как назло, непременно является неотвязный вопрос: в чем же добро-то? Для разрешения этого вопроса опять-таки неизбежно знание. А как быть, ежели его нет?
На вопрос этот мы находим положительный ответ, относительно древней Руси, и в книге г. Жеребцова и во всех творениях славянофилов. Они уверяют, что вопросы о том, что добро и что худо, были еще издавна в древней Руси разрешены Византиею. От Византии пришла к нам образованность, оттуда получили мы и готовое решение вопросов о добре и зле. В течение веков византийские убеждения проникли в массу народа, срослись с существом его и в практической деятельности выразились избытком любви к общему благу. Это мнение есть один из основных пунктов славянофильского учения. Но мы позволяем себе совершенно иначе думать о влиянии на русский народ греческой образованности. Не говорим о том, было ли оно благодетельно там, куда успело проникнуть; но мы знаем, что оно весьма мало проникло в народ, не вошло в его убеждения, не одушевило его в практической деятельности, а только наложило на него некоторые свои формы. В следующей статье мы будем иметь случай показать, как мало благодетельного значения имело византийское влияние в историческом развитии Руси; теперь же заметим только, что, видно, слабо оно действовало в сердцах русских, когда не могло противостоять воле одного человека, да и то напавшего на него не прямо, а очень и очень косвенно, при реформе государственной. Лично для г. Жеребцова мы, пожалуй, прибавим еще следующее замечание: очень, видно, слабо было византийское влияние в русских сердцах, когда оно уступило даже влиянию «заразительной» философии полковника Вейсса!..
Что касается вопроса, в какой мере в настоящее время любовь к общему благу распространена в обществе и народе русском, об этом мы уж и говорить не решаемся после всего, что на этот счет было писано гг. Щедриным, Печерским, Селивановым, Елагиным и пр.{23}. Собственным примером эти писатели доказали, что любовь к общей пользе доходит в некоторых представителях русского общества до самоотвержения; объективная же сторона их деятельности показала, что самоотвержение русского народа доходит действительно до крайних пределов, даже до глупости. Наши соображения относительно этого предмета покажутся слишком слабыми после прекрасных этюдов названных нами писателей. Впрочем, еще прежде их весьма красноречиво и убедительно говорил об этом известный своим самоотвержением для пользы общей Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, словами которого мы и покончим пока с этим вопросом и с настоящей статьей: «Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах. Но верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно. Наградит ли оно или нет, – конечно, в его воле, – по крайней мере я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало… то чего ж мне больше? Ей-ей, я почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво… но пред добродетелью все прах и суета!..»
Статья вторая
Мы начали первую статью нашу о г. Жеребцове указанием на те обстоятельства, которые поставляли автора в особенно благоприятное положение при издании его книги. Теперь, приступая к разбору некоторых частностей сочинения г. Жеребцова, мы должны прежде всего заметить, что ни одним из этих обстоятельств он не умел или не хотел воспользоваться. Он как будто позабыл, что пишет в Европе, что издает свою книгу для европейских читателей, не совсем привыкших к тем понятиям, которые так обыкновенные и естественны кажутся у нас. Увлеченный теми патриотическими стремлениями, о которых так много распространялись мы в прошедшей статье, г. Жеребцов не избежал громких фраз и реторических изображений, которыми, конечно, никого теперь не обманешь в Европе. Мало того – в порыве патриотического усердия г. Жеребцов наговорил о любезном отечестве немало таких вещей, которые – совершенно незаслуженно, – бросают на любезное отечество не совсем хорошую тень, хотя автор, рассказывая все эти вещи, имел в виду единственно превознесение означенного любезного отечества. Все это произошло оттого, что г. Жеребцов слишком уже понадеялся на то, что Европа ничего не знает о России и что, следовательно, ей можно рассказывать все что угодно. Но очевидно, что такая надежда автора слишком преувеличена, и, кроме того, он совершенно напрасно позабыл о том, что если европейские читатели не знают истории и образованности русской, то все же они знакомы хоть с какой-нибудь историей и имеют хоть какую-нибудь образованность. Смотря на всю Европу с высоты своего славянского величия, г. Жеребцов решительно не хочет признать этого и поступает с своими читателями так, как будто бы они не имели ни малейшего понятия – не только об истории и образованности, но даже о самых простых логических построениях; как будто бы они лишены были не только всяких познаний, но даже и здравого смысла. Столь ложные отношения автора к своим читателям служат источником множества забавных ошибок и ложных положений, наполняющих книгу г. Жеребцова. Трудно отыскать хотя одну страницу в его исторических обозрениях, на которой бы не было самых грубых недосмотров, самых произвольных толкований, самых поразительных неверностей даже в простом изложении фактов. И все это соединяется с резкою самоуверенностью тона, доходящею до того, что личные, ни на чем не основанные догадки автора высказываются как аксиомы, как факты несомненно доказанные! Удивительно, невероятно казалось нам фантастическое произведение русского патриота барона Розена, утверждавшего, что Россия должна гордиться скифским царем Мидиасом, затмившим Александра Македонского, и что «преобладательный скифский элемент» особенно ярко выразился у нас в Святославе, Петре Великом и Суворове{24}. Изумителен и непонятен был нам г. Вельтман, доказывавший, что славянские государства процветали уже задолго до троянской войны и что Борис Годунов был дядя царя Федора Ивановича{25}. Странен и забавен был для нас известный ученый, из патриотизма восхищавшийся тем, что «не жаден русский народ, не завистлив» – ибо «летает вокруг него птица – он не бьет ее, плавает рыба – он не ловит ее и довольствуется скудною и даже нездоровою пищею»{26}. Но все эти патриоты и ученые должны уничтожиться пред патриотизмом и ученостью г. Жеребцова: он так далеко простер историческое неведение и отсутствие правильности и добросовестности в выводах, что ученые натяжки гг. Розена, Вельтмана, Шевырева и пр. кажутся просто невинной шалостью в сравнении с его умствованиями и изобретенными им фактами. На наших доморощенных ученых можно было смотреть с кротким умилением: они ведь просто забавлялись, шалили для собственного удовольствия… Притом же их фантастические бредни если и выходили иногда из пределов приличия, дозволяемого здравым смыслом, то могли по крайней мере быть извинены тем, что авторы не церемонятся показываться отечественной публике совершенно по-домашнему – небритые, немытые, неодетые. Но нет этого оправдания для человека, который решается показать себя и Россию Европе, который рекомендуется наставником и просветителем европейской публики. Он не может представлять своим читателям голые фразы; он должен запастись хоть какими-нибудь знаниями, хоть немножко промыть себе очи и привести в порядок свои разбросанные мысли. В противном случае автор показывает величайшее неуважение не только к своим читателям, но и к тому предмету, о котором берется рассуждать.
Предмет г. Жеребцова – Россия и ход ее развития – вовсе не так ничтожен, чтобы можно было приниматься за него, не давши себе труда усвоить даже элементарные сведения о внешних фактах, не говоря уже о их внутреннем значении и связи. Нам совестно было бы постоянно следить за г. Жеребцовым в его промахах, выдумках и искажениях фактов русской истории, и мы надеемся, что читатель этого от нас не потребует. Но нельзя же не дать нескольких образчиков того, до какой степени простирается небрежность и неведение автора, и мы решаемся исполнить эту прискорбную обязанность, чтобы не стали нас обвинять в голословности нашего отзыва.
Выбирать у г. Жеребцова не из чего: все равно, куда ни загляни. Поэтому мы и начнем с самого начала – с основания Руси. Тут ли уж, кажется, не легко автору соблюсти верность и основательность в кратком изложении событий? Сколько об этом было у нас писано, сколько источников под руками, как разъяснен взгляд на эпоху! Посмотрите же, как хорошо г. Жеребцов всем этим воспользовался.
Том I. Стр. 50. «Сподвижники Рюрика носили титул князя, если были его родственники, или мужа, если не были из его фамилии».
Откуда взято такое положительное сведение? Неужели, перенося его из позднейшего периода ко временам Рюрика, – автор не сообразил, что слова муж и князь не могли быть занесены в Русь варягом Рюриком, что они гораздо ранее существовали в славянских наречиях, без всякого отношения к родословному древу Рюрика, и что во времена Рюрика и Олега летописи упоминают князей, которые вовсе не должны были приходиться роднёю Рюрику. Олег требует с греков «уклады на русские городы, по тем бо городом седяху князья, под Ольгом суще». Игоревы послы говорят, что они посланы «от Игоря, Ольги и от всякоя княжья»… Не хочет ли г. Жеребцов представить родословное древо этой «всякой княжьи»? Ему, кажется, очень хочется, чтобы «всякое княжье» не могло происходить иначе, как от Рюрика.
Стр. 50. «Рюрик послал двух из своих мужей, Аскольда и Дира, чтобы они его именем заняли город Киев».
Сравните это хоть с рассказом Карамзина, который говорит: «Аскольд и Дир, может быть недовольные Рюриком, отправились искать счастья…» В примечании же Карамзин прибавляет: «У нас есть новейшая сказка о начале Киева, в коей автор пишет, что Аскольд и Дир, отправленные Олегом послами в Царьград, увидели на пути Киев», и пр… Очевидно, что г. Жеребцову понравилась эта сказка, и он ее еще изменил по-своему для того, чтобы изобразить Аскольда и Дира ослушниками великого князя и оправдать поступок с ними Олега.
Стр. 51. «Узнав о неудаче предприятия Аскольда и Дира против Царяграда, Олег подумал, что ему легко теперь овладеть Киевом. С этой целью он пошел на Смоленск» и пр…
Увлекшись мыслью о дипломатической мудрости Олега, г. Жеребцов не сообразил, что поход Аскольда и Дира на Царьград был в 866 году, еще при Рюрике, и что Олегово княжение начинается, по летописям, только с 879 года, поход же на Смоленск и Киев относится к 882 году. Выходит, что Олег-то 16 лет думал воспользоваться неудачею Аскольда и Дира: плохая дипломатия!
Стр. 52. «Подошедши к Киеву, Олег послал Аскольду и Диру приглашение – явиться к нему в стан для приветствия князя Игоря, с которым он отправлялся в Константинополь».
Спрашивается: зачем г. Жеребцов, рассказывая известное предание, искажает его и не хочет сказать, что Олег обманул Аскольда и Дира, назвавшись купцом и не помянув об Игоре?..
Стр. 52. «Олег сделал Киев своею столицею. Может быть, мятежный дух новгородцев и их постоянные республиканские стремления имели влияние на такое решение Олега».
Какое разумное объяснение! Как оно вытекает из характера первых князей русских! И какая честь для мудрого и храброго Олега, что он бежал от своего народа, опасаясь его либеральных наклонностей!..
Стр. 53. «Олег прибил к воротам Царяграда щит Игоря, с изображением всадника».
Не понравилось г. Жеребцову известие, что Олег прибил свой щит к воротам Царяграда; он и сочинил Игорев щит, да еще и с изображением всадника. Последнее известие взято, конечно, из Стрыйковского, который говорит, что сам видел щит на Галатских воротах, с изображением св. Георгия{27}. Такое свидетельство не могло не прельстить г. Жеребцова; как же не прельститься, – у Олега на щите изображен св. Георгий, и греки от Олега до Стрыйковского любуются вражеским трофеем на воротах своей столицы!.. Можно ли не воспользоваться таким великолепным известием? Можно ли за него не чувствовать симпатии к Стрыйковскому, который, между прочим, сообщает и такие известия, что Добрыня (Никитич) был женщина!..
Стр. 54. «Договор Олега заключен был 15 сентября 912 года».
Умеет автор читать летописи! Там сказано: «месяца себтября в 2, а в неделю 15, в лето создания мира 6420». Стр. 55. «Большая часть этих законов (изложенных в договоре Олега) имела силу в Новгороде еще до пришествия норманцев, и по ним-то хотели управляться новгородцы, призывая к себе князей на княжение».
На чем основал автор такое решительное суждение? Не на том ли, что новгородцы часто брали с князей обещание держать их «по льготным грамотам Ярославовым»? Может быть, он полагает, что Ярослав был в Новгороде до пришествия норманнов?
Стр. 55. «В 941 году, воспользовавшись несчастной войною империи с болгарами, Игорь пошел на греков». Удивительно, как неудачно г. Жеребцов навязывает князьям русским дипломатические соображения. Действительно, Симеон болгарский вел войну с императором Романом, но только это было в 929 году. Игорь опоздал 12-ю годами у г. Жеребцова; в 941 году, когда он пошел на греков, то, по известиям наших летописей, «послаша болгаре весть ко царю, яко идут Русь на Царьград».
Стр. 56. «Игорь обязался давать каждому из своих подданных, отправляющемуся во владения императора, письменный паспорт, в котором прописывалась цель путешествия и свидетельствовались мирные намерения путешественника».
Такой смысл придает г. Жеребцов статье договора, где говорится о послах и гостях: «Иже посылаеми бывают от них ели и гостье, да приносить грамоту, пишюче сице: яко послах корабль селько. И от тех да увемы и мы, яко с миром приходят». Кажется, это не совсем то, что выводит г. Жеребцов.
Стр. 56. «Игорь в этом году начал новую войну с древлянами, чтобы заставить их увеличить количество платимой ими дани. Получивши дань, он отослал ее в Киев, вместе с частию своей дружины; но (что значит здесь но?) древляне, будучи раздражены и пользуясь изнеможением его войска, напали на него и его убили».
Как скромно рассказывает г. Жеребцов похождения Игоря! Иностранцы могут поверить ему; но мы ему напомним простодушный рассказ летописи, не лишенный своего рода занимательности. «В лето 6453 рекоша дружина Игореви: отроци свенелжи изоделися суть оружием и порты, а мы нази; пойди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши, и мы. Послуша их Игорь, иде в Дерева в дань, и примышляше к первой дани, насиляще им, и мужи его; возъемав дань, поиде в град свой. Идущю же ему вспять, размыслив, рече дружине своей: «Идите с данью домови, а я возвращюся, похожю и еще». Пусти дружину свою домови, с малом же дружины возвратися, желая больша именья. Слышавше же древляне, яко опять идет, сдумавше с князем своим Малом: «аще ся ввадит волк в овцы, то выносить все стадо, аще не убьють его; тако и се, аще не убьем его, то вся нас погубить», послаша к нему, глаголюще: «Почто идеши опять? Поимал еси всю дань». И не послуша их Игорь и вышедше из града из Коростеня, древляне убиша Игоря и дружину его». Вот как происходило дело по сказанию летописи. Напрасно г. Жеребцов в своем рассказе совершенно изменил характер происшествия. Краткость его исторических очерков не может служить ему оправданием.







