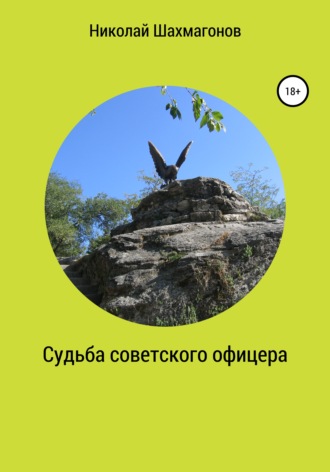
Николай Фёдорович Шахмагонов
Судьба советского офицера
…Обо всём этом, и о своих ощущениях, и о том, что было у него с Ириной, и о том, о чём он знал из её рассказов, Синеусов вспоминал, лёжа на диване спального вагона. А поезд, отстояв у перрона станции Минеральные воды положенное время, вырвался, наконец, на простор.
Сосед по купе, приоткрыв дверь, предложил пойти попить чай вместе со всей его семьей, и Синеусов, поблагодарив, принял приглашение.
Сергей Николаевич и его супруга оказались людьми общительными. Звали супругу Екатериной Владимировной, а дочку – Леночкой.
– Какая же вас эффектная дама провожала! – сказала, обращаясь к Синеусову, Екатерина Владимировна.
– Мне она тоже нравится, – шутливо ответил он.
– Она местная? Я её раньше не видела…
– А я видела, – вставила Алёна и, обращаясь к Синеусову, пояснила: – Вы с ней гуляли по «Цветнику», когда мы шли в театр.
– Было дело… Где только не гуляли…
Принесли чай, и началась бесконечная дорожная трапеза, неспешная за неспешным разговором. Екатерина Владимировна иногда, казалось, теряла нить разговора и как-то необычно поглядывала на Синеусова. Потом вдруг, отвернувшись к окну, надолго замолчала. Синеусов не мог знать, что его прощание на платформе Пятигорского вокзала навеяло на неё воспоминания о том давнем отдыхе в Пятигорске, когда она познакомилась с Теремриным. Синеусов заметил, что Алена более похожа на мать, нежели на отца, можно даже было сказать, что на него она непохожа вовсе.
– Вы, конечно, офицер? – спросил Труворов. – А где служите?
– В военном журнале.
– А мой папа служит в Гэ Сэ Вэ Гэ… Генерал, – вставила Алёна.
Синеусов отметил, сколь привычно девочка назвала сокращенное наименование Группы Советских войск в Германии.
– Военным журналистом я стал недавно, – сказал он. – Ещё год назад командовал мотострелковой ротой, потому что окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. А вы не кремлёвец?
– Нет, я окончил Ленинградское ВОКУ, в Петродворце, – ответил Труворов и с улыбкой прибавил: – Наше не уступает вашему пехотно-балетному.
– Пехотно-балетному? – переспросила Алёна, смеясь. – Это ещё что такое?
– На всех парадах, что бывают на Красной площади, в Москве, мы, кремлёвцы, тоже всегда лучшие, – с гордостью пояснил Синеусов. – Вот в шутку и зовут наше училище пехотно-балетным. Ведь успехи в строевой подготовке достигаются долгими тренировками.
Между тем, поезд стал замедлять ход, и скоро за окном потянулись станционные постройки. Когда показался узкий, приземистый асфальтовый перрон, Синеусов, поблагодарив хозяев купе за гостеприимство, пояснил, что хочет прогуляться.
Сергей Николаевич поднялся следом, спросив, у жены, что нужно купить?
– Бога ради, ничего не надо. Того, чем нас в дорогу снабдили друзья твои, не съесть до Москвы. Так что и вы, Александр, пожалуйста, приходите на помощь.
– Спасибо, обязательно помогу, – с улыбкой согласился он и вышел из купе.
Прогулка по платформе ему не очень-то была нужна. Просто хотелось побыть наедине со своими мыслями. Он для виду всё же вышел из вагона, но почти тут же вернулся в своё купе, прилёг на диван и вновь погрузился в воспоминания.
…Перед вторым свиданием с Ириной он сходил на рынок, выбрал там самый, на его взгляд, великолепный букет и точно в назначенный час занял выжидательную позицию в назначенном накануне месте. Ирина пришла без опоздания. День выдался жарким, и оделась она легко. На ней была алая блузка, подчёркивающая красивую грудь, и короткая юбочка, оттеняющая стройные высокие ноги, о которых говорят, что растут от плеч. Всё было столь ярко, гармонично и просто восхитительно, что, казалось, будто Ирина сошла со страницы журнала мод. Синеусов шагнул навстречу и с бесшабашной удалью опустился на одно колено, протягивая букет.
Она ответила, подобно Бунинской героине из «Чистого понедельника», мягко и ласково:
– Спасибо за цветы… Какой удивительный букет…
– Вы ярче и краше любого самого яркого цветка, – ответил Синеусов, поразившись неведомо откуда взявшемуся красноречию.
– Ну что вы, что вы, – слегка покраснев, возразила Ирина. – Я самая обыкновенная.
Но от глаз Синеусова не укрылось, что ей очень приятны его слова: румянец на щёчках, гармонировал с алой блузкой.
– Куда мы пойдём сегодня? – спросила Ирина, торопясь увести разговор от комплиментов, которые, как она не без основания предполагала, Синеусов был готов расточать бесконечно.
– Я обещал вам показать город.
– А можно я цветы дома оставлю? Вы не обидитесь? Мы же долго будем ходить. Они завянут, пока гуляем…
– Конечно … Я подожду здесь, на лавочке, в тени.
– Вы на «Провале» были? – Спросил Синеусов, когда Ирина вновь предстала перед ним. – Нет? С него и начнём.
И снова им пела арфа, почти не видная с тротуара, по которому они шли в сторону «Провала», и снова с высоты открывался в прогалинах зелени город, только не ночной, а залитый солнцем. «Провалом» именуется не только сам провал в склоне горы, открывший подземное озеро. Так в Пятигорске принято называть целый район, где сплошь санатории, санатории, санатории, выстроившиеся вдоль дороги, огибающей Машук по его склону, близ подножия. Сам же «Провал» превращён в одну из достопримечательностей Пятигорска. К подземному горному озеру с сероводородной минеральной водой, которая и вымыла пещеру, прорыли туннель, а в самом конце его сделали небольшую смотровую площадку на берегу озера.
Сначала Синеусов показал Ирине «Провал» из туннеля, затем они поднялись к самому провалу в склоне. Те, кто никогда не бывал в Пятигорске, не могут заметить случайной или умышленной ошибки в фильме «Двенадцать стульев». Там известные «предприниматели», далёкие предшественники «реформаторов»-ельциноидов, собирали деньги за вход вовсе не в тоннель провала, а к гроту, что находится прямо под Эоловой арфой. Справа – скала, слева – обрыв, отгороженный металлической оградой.
И сам «Провал», и подходы к нему выглядят совсем иначе. К самому же провалу в склоне никаких путей не подведено. Туда ведут тропки. Огорожено это место весьма непрезентабельным заборчиком. Синеусов и Ирина постояли у этого заборчика. А когда спускались вниз по крутой тропке, он впервые и, можно сказать, по исключительной необходимости, обнял её, снимая с высокого бруствера, ограждающего дорогу от оползней. Лишь на мгновение охватили его руки горячую, притягательную талию Ирины, но и этого было достаточно, чтобы не сразу прийти в себя и успокоиться. От «Провала» они вернулись к каскадной лестнице, спустились вниз и пошли через «Цветник» и центральную улицу, к которой он выводил, до самого городского парка, нешумного и малолюдного, но с традиционными колесом обозрения, каруселями и эстрадой.
Чтобы не тратить время на ужин, заглянули в маленькое кафе со сладким названием «Шоколадница». Теперь подобных заведений хоть пруд пруди, а когда-то они были своеобразной достопримечательностью лишь некоторых городов, в том числе и Пятигорска.
– Мы сегодня доберёмся, наконец, до танцплощадки? – спросил Синеусов.
– Мне, наверное, надо всё-таки переодеться. Публика у вас почтенная. Удобно ли мне, в таком виде? – спросила Ирина.
– На летней танцплощадке полумрак. Ничего страшного.
– И всё же я переоденусь…
Погода в Пятигорске переменчива. Весь день было жарко, и на небе – ни облачка, но к вечеру «Машук» надел шапку – так говорят местные жители, когда дождевые тучи седлают вершину горы. Примета простая – жди дождя. Но Синеусов ещё не знал местных примет. Они с Ириной поднялись на склон Машука к «Ленинским скалам», она быстро переоделась, но, когда они по пути в военный санаторий, миновали корпус с драматическим названием «Опавшие листья», на них упали вовсе не листья, а первые капли дождя. Не придав этому особого значения, они перешли дорогу и направились к верхней проходной военного санатория. И тут на них обрушился каскад воды.
– Ой, я теперь, как облезлая курица, – стремясь перекричать громовые раскаты и шум дождя, пожаловалась Ирина.
– Это вам не грозит. В смысле, может, и промокнете, но вы ещё краше под дождём.
Они бежали к проходной, а дождь хлестал всё сильнее и сильнее. Не останавливаясь перед потоком воды, преградившим им путь, Синеусов подхватил Ирину на руки и перенёс через этот поток. Она охнула от неожиданности, обхватила руками его шею и не разжала объятий даже тогда, когда он уже поставил её на ноги. Их губы оказались близко друг к другу, глаза смотрели в глаза. Они были одни под проливным дождём, хотя справа прятался в зелени трёхэтажный корпус, а слева белела санаторная столовая. Мгновение, другое… И горячий поцелуй, подобно молнии, озаряющей дождевую мглу и прорезающую своим светом стену дождя, соединил их горячие уста. Мгновение… И новый отрезвляющий шквал дождя возвратил их в действительность. Они не сразу сообразили, что надо было скорее бежать под крышу, их тела ещё были рядом, сильные, молодые, плотно облегаемые вымокшей до нитки одеждой.
– Бежим ко мне, – опомнившись, предложил Синеусов. – Скорее, скорее, а то простудитесь…
Они миновали санаторский клуб. Танцевального вечера не было слышно. С летней площадки всех распугал дождь, а в зимнем зале ещё не закончился ремонт.
Вот и жилой корпус, новый, многоэтажный, комфортабельный.
– Ой, что вы, я не пойду. Я здесь подожду, – испуганно заговорила Ирина.
– Ну, пойдёмте же… С вас вода ручьём течёт, – заметил Синеусов.
Лифт поднял их на пятый этаж, и ещё через минуту он распахнул дверь своего номера.
– А сосед? – спросила Ирина. – Неудобно как-то.
– Я живу один, – пояснил Синеусов.
Ирина вошла и огляделась. Комната была просторной, с двуспальной кроватью и тумбочками по бокам, с письменным столом у окна. В углу, на журнальном столике – телевизор. На столе – пишущая машинка.
Синеусов подошёл к столу и выдернул из каретки лист бумаги.
– Что-то секретное? – хитро спросила Ирина.
– Пока, да, – ответил Синеусов. – Но придёт время, и прочту.
Она всё ещё стояла посреди комнаты, потому что не могла сесть – и юбка, и кофточка были настолько мокрыми, что могло показаться, будто их только что изъяли из стиральной машины, в которой сломался отжим. Синеусов предложил Ирине пройти в ванную и подал чистое полотенце с дальнего края кровати.
– Спасибо… Вот только переодеться не во что.
Он открыл стенной шкаф и с улыбкой протянул спортивные шорты с рубашкой, пояснив, что ничего более подходящего, увы, нет.
Ирина скрылась в ванной, а он быстро достал из холодильника бутылку Шампанского, фрукты, шоколадку и всё это красиво, насколько мог успеть, разложил на письменном столе, предварительно убрав пишущую машинку. Ирина вошла в комнату, когда он уже завершал эту скромную сервировку стола. Он делал это настолько привычно и сноровисто, что она невольно подумала, причём не без сожаления, что, вероятно, подобное ему приходилось делать нередко.
– Прошу к столу, – пригласил Синеусов. – Нет-нет, садитесь на кровать. В кресле очень низко… Садитесь, садитесь, – прибавил он, предвосхищая возражения, – а я сяду на стул.
– Вам же будет не видно телевизор, – попыталась возразить она.
– И не нужно. Я буду смотреть только на вас.
Из телевизора, который в те годы стремительно обращался в бесноватый ящик, неслись обычные стенания по «преимуществам западного образа жизни». Губошлёпы из программы «Взгляд» шлепали о том, что, если в стране будет много очень богатых, в ней вовсе не останется бедных. И тогда все будут иметь возможность купить дачи, машины, ездить на вожделенный для «взглядовцев» Запад и, одним словом, удовлетворить все свои хотения. Это было время, когда люди, обманутые телевидением и жёлтой прессой, ещё верили бесноватым комментаторам и репортерам, принимая бесноватость за искренность.
– Что творится? Митинги, демонстрации, – с горечью сказала Ирина. – Не знаешь теперь, как историю преподавать. Тут один историк назвал Болотникова, Пугачева и декабристов чуть ли не врагами и бандитами. Читали? Кажется, Теремрин его фамилия.
– Да, да читал, – сказал Синеусов. – Он в нашем журнале часто публикуется.
– Так вы его знаете?
– Нет, познакомиться не довелось. Это ребята из отдела истории с ним знакомство водят. У нас по поводу его статей целые дебаты проходят. Старики, однажды, чуть не перессорились в курилке. Одни говорят, мол, на героев клевещет, другие – правду восстанавливает.
– А я, поскольку историю преподаю, должна знать, что говорить ребятам. Они ж от мира не изолированы: телевизор смотрят, радио слушают. Родители-то дома и журналы, и газеты обсуждают, – говорила Ирина.
– Да, много странного в нашей жизни, – резюмировал Синеусов. – Но не будем об этом сегодня. У нас отдых, прекрасные края, прекрасная погода и вы поразительно прекрасны.
– Да уж, погода, – вставила Ирина, снова стараясь увести разговор от обсуждения собственной персоны. – В чём домой теперь идти? В ваших шортах?
У Синеусова замерло сердце. Можно было понять это, как намёк на желание остаться у него, но он тут же отбросил эту мысль, понимая, что сказанное вряд ли можно истолковать подобным образом. Когда вы молоды, полны сил и энергии, а рядом с вами обворожительная молодая женщина, когда вы с нею одни в комфортабельном номере, где никто не может вам помешать, когда перед вами широкая и просторная кровать, какие мысли будут вертеться в голове у вас? Уж, наверное, не о целях и задачах перестройки. У Синеусова в голове образовался полный сумбур, и он никак не мог наладить хоть какой-то связный разговор. Дрожь проходила по телу, когда взгляд случайно падал на её полные коленки и на то, что выше них уходило под его же шорты, на красивые руки, на шею, на рассыпавшиеся по плечам роскошные волосы. Быть может, лет десять назад он бы сел рядом на кровать, попытался обнять… А там будь что будет. Теперь же он любовался ею, но не знал, как поступить, и чувствовал, что и она не знает, как ей вести себя с ним. Они, словно бы оказались на перекрестке дорог, и пути-дороги могли повести в любую сторону. Это было время, когда женщины ещё не продавались, открыто на улице, более скрытно в банях и массажных центрах, и совсем уже тайно, в так называемых элитных клубах. Это было время, когда мужчина должен был завоевать женщину не с помощью омерзительных зелёных бумажек, а только своим интеллектом. Это было время, когда в людях ещё сохранялось некоторое подобие благочестия. Я говорю, некоторое подобие, потому что это благочестие не основывалось на праведной вере, а держалось только на традициях предков, ещё не окончательно сокрушённых, и держалось из последних сил. Это было время, когда ещё сохранялось некоторое подобие стыдливости, когда соблюдалось таинство близости между мужчиной и женщиной. Всё это ещё не было той бессовестной формой взаимоотношений, которую впоследствии внедрила демократия. Это ведь именно демократы подразумевают под любовью не само высшее и светлое чувство, а физические упражнения в похоти. А по сравнению с этими упражнениями, всё то, что происходит в определённое природой время у животных, можно назвать верхом благочестия. В эпоху ельцинизма пошлость стала нормой поведения ельциноидов. И, быть может, кому-то из покупателей любви эпохи ельцинизма могло бы показаться удивительным, что молодой капитан, привлекательный для женщин, забивает голову нелепыми размышлениями. Впрочем, известна простая истина: мужчины делают дело, бизнесмены – деньги. Синеусов относился к мужчинам, которые делали дело, может, и не самое главное в стране, но дело, которое надо делать хорошо. Это главное в его жизни дело определяло и его отношение к женщинам.
Разговор об истории, который они начали, несмотря на очень и очень волнующую тему, был спасительным, разряжающим напряжение. И всё-таки эта тема уместнее была бы в другой обстановке. Они оказались в положении, когда мужчина и женщина, в глубине души, уже чувствуют необыкновенное единение. Но, не менее отчётливо ощущается и непреодолимый барьер, разделяющий их. Он, этот барьер, сдерживал и наших героев. Ведь сами по себе отношения между мужчиной и женщиной основаны на таинстве продолжения человеческого рода. И это таинство не терпит легковесности и легкомыслия.
Синеусов, разумеется, в тот момент вовсе не задумывался о столь высоком духовном смысле происходящего с ним, но подсознательно, на интуитивном уровне, относился к находившейся рядом Ирине, как к какому-то необыкновенному, божественному сосуду, который можно повредить дерзким прикосновением. И он не смел, повредить этот сосуд. Для того же, чтобы он мог прикоснуться к нему, для того, чтобы сделать шаг к тому, о чём не мог не думать как мужчина, будучи рядом с необыкновенной привлекательности женщиной, нужны были какие-то неожиданные, независящие от него обстоятельства. В отношениях с женщинами он был довольно безгрешен, отставая заметно от многих товарищей по службе, да и вообще многих мужчин его возраста, и других, более старших возрастов. Но на то были особые причины, речь о которых ещё пойдёт впереди. Если и случались встречи, он никогда не совершал подлости в отношениях с прекрасным полом, не совершал в силу своего воспитания, своих убеждений. И эти убеждения были достаточно сильны, хотя не имел он ещё в ту пору того стержня, которыё даёт единственно Православие, как не имели в ту пору этого стержня и многие другие. Потому-то благочестие того времени, даже основываясь на традициях предков, всё же было не слишком прочным. Синеусов несмел сделать очередного шага к сближению сам, но если бы Ирина сделала этот шаг, ничего сдерживающего уже не было бы.
Он даже ещё не открыл бутылку Шампанского, он всё ещё чувствовал себя скованно. Вдруг вспомнил, что и ему не худо переодеться, извинился, что оставляет Ирину на несколько минут, и вышел из комнаты, прикрыв за собою дверь. Быстро приняв душ, облачился во всё сухое и, уже собираясь выходить из ванны, коснулся её юбки. Она была ещё совсем сырой. Снова всколыхнулся рой мыслей – вряд ли могла одежда её достаточно подсохнуть. Вернувшись в комнату, наполнил бокалы и сказал:
– Первый тост предлагаю на брудершафт.
…От воспоминаний оторвал шум открывшейся двери. В купе вошёл Труворов и спросил:
– Не спите ещё?
– Рановато, – отозвался Синеусов, недовольный тем, что снова придётся поддерживать какой-то разговор.
Но он ошибся. Труворов быстро разобрал постель и лёг спать, отвернувшись к стене. Порадовались этому сразу два человека. Не только Синеусову хотелось побыть наедине со своими мыслями. О том же мечтала и жена Труворова Екатерина Владимировна, Катя, поскольку всё, прошедшее за последние сутки, вывело её из душевного равновесия.
Дмитрий Николаевич, Дима Теремрин, тот самый Дима Теремрин, любовь к которому осталась в её памяти чем-то светлым, тёплым и драгоценным, и которого она давно оплакала, получив известие о том, что он погиб, оказался здоров и невредим. А ведь известие о том, что Дима Теремрин погиб, пришло не от кого-то, а именно от Сергея Труворова, ставшего впоследствии её мужем. Но сегодня её взволновало не только то, что принесено ей было ложное известие. Взволновали воспоминания. Ведь, вот так же, как сегодня, она уезжала с этого самого вокзала много лет назад вместе со своими родителями. Правда, её никто не провожал, поскольку Теремрину сделать это не удалось. То, что произошло между ними в ночь перед отъездом, тогда, в минуты прощания, ещё не укладывалось в сознании. Сначала она очень боялась, что догадаются родители. Но в суете им оказалось не до того. Потом снова охватила печаль, ведь предстояла разлука с Димой. Они даже не успели толком коснуться в разговорах будущих планов, но иногда и слова не нужны: всё ясно бывает и без слов. Те чувства, которые родились в быстротечные дни отдыха, не могли исчезнуть бесследно. Она вот так же, как сегодня, проводила, глядя в окно, Машук и белые здания санатория, где оставался Дима. И сегодня он тоже оставался там, в санатории. Но сегодня между ними лежала непреодолимая пропасть. А тогда? Разве её не было уже тогда? Просто о ней, о пропасти той, они с Димой ещё не подозревали, по крайней мере, не подозревала она.
Что же произошло? Неопытный ещё восемнадцатилетний птенчик, она не сразу поняла, что случилось с нею после той ночи. А когда поняла, призналась маме. Сначала был шок, потом бурное негодование по поводу того, что случилось, гнев на Теремрина, поступившего столь бессовестно. Потом, обо всём узнал отец, и негодование достигло апогея. У Владимира Александровича возникло желание немедленно наказать Теремрина, который, к тому же, ни разу не подал о себе весточки. Остановило спокойное, резонное замечание мамы по поводу неприглядной ситуации. Неужели столь солидный и ответственный человек начнёт ловить мальчишку, чтобы женить на дочери? Как это выглядеть будет? Наконец, спохватились: надо ведь меры принимать. Катя всё ещё надеялась, что ей удастся связаться с Димой, хотела подождать ответа на письмо, которое она ему отправила. Потом выяснилось, что он куда-то откомандирован из того соединения, в котором служил и адрес которого дал ей. Решение у родителей напрашивалось одно. Кате надо учиться. Какой ребёнок? Да к тому же без отца. Ещё встретит человека. А пока надо прервать случившееся известным способом. И тут всё дошло до бабушки, а бабушка была человеком верующим. Она набросилась на сына и невестку:
– Вы что, убийцы? Ребёнка хотите убить? Прокляну.
– Почему убить? – удивилась Катина мама. – Это ж дело законное.
– Какое такое законное? Кто такие законы установил? Хрущёв их установил. Он аборты разрешил и популяризировал, чтоб население страны сократить. А почему? Да потому что безбожником был, потому что храмы взрывал, приходы уничтожал… Потому что хотел обезлюдеть Россию. Знаете, кто аборты разрешил в России? Троцкисты, когда власть захватили. А Сталин, вырвав власть у убийц, аборты запретил…
– А Сталин, что же, не из них что ль? – спросила Катина мама.
– Сталина не трогайте. Сталин Православным был. И, между прочим, в храм наш «Всех Святых», что на «Соколе», который с домом вашим рядом, во время войны не раз приходил молиться. Я сама видела.
Жили Катины родители в знаменитом «генеральском» доме, что у метро «Сокол». Он построен был близ Храма «Всех Святых». А неподалёку от Сокола, в доме довоенной постройки, жили родители отца Кати. В тех домах немало было свидетелей, которые не раз видели Сталина в Храме в годы войны. Кто-то даже в детстве своём получал от сопровождавших вождя кулёчки с конфетами подушечками.
Бабушка продолжала наступление:
– У неё, – кивала она на Катю. – Там уж человек растёт. И душа в нём живёт. Бог душу вдохнул в тот самый момент, – она запнулась, не зная, как сказать, потом переключилась на Катю: – Тебя бы высечь, внученька, да правнуки мои в тебе живут. Вот когда родишь, тогда разберёмся, – прибавила она и, обращаясь к сыну и невестке, потребовала: – И что б никаких упреков я не слышала в её адрес. Не сметь более вспоминать и обсуждать, что как да почему…
Катя не запомнила всего, что сказала бабушка – в памяти осталась лишь главная канва разговора. Поняла она тогда на всю жизнь то, о чём бабушка сказала столь убедительно – прекращение беременности смертный грех, тягчайшее преступление, ибо это убийство. И нет ему прощения от Бога.
Может, она тогда и не была верующей, как и теперь таковой не была вполне, но в русском человеке, даже ещё не осознавшем себя Православным, живёт на интуитивном, генетическом, а, быть может, даже на духовном уровне понимание Божьих Законов. Надо лишь пробудить человека для их понимания. Социализм по отношению к людям неизмеримо милосерднее бесчеловечной звероподобной демократии. Если бы ещё осветить его Божьим светом! И это теоретически было возможно, да вот только практически не получилось. Державный социализм запретил убийства детей во чреве, чем оказался ближе к Христовым заповедям. Первый адвокат бесовщины, измены, предательства, человеконенавистничества Хрущёв разрешил эти убийства. А демократия даже гомосексуализм дозволила, о чём, кстати, бабушка говорила во время того памятного семейного совета, предрекая, что последователи Хрущёва ещё не такое дозволят…
И как тут было не увидеть высшей правды: действительно, откуда всё берётся – разум, зрение, слух, осязание в тёплом комочке жизни, который появляется на свет. Уж не сильные ли мира сего в него всё это вкладывают, как в банк?! Нет, эти «сильные» только отнимают у человека всё, что можно отнять. Так откуда же сама жизнь? Стоит человеку задуматься, и он начинает понимать, что вовсе не имеет значения, на каком месяце беременности убит человек. Душа приходит не в какой-то месяц. Она приходит в ту самую малую капельку жизни, которая образуется при слиянии мужчины и женщины. Она освящена Богом. И как же важно, чтобы это слияние не произошло до того, как оно, слияние это, тоже освящено Богом. Этого не понимали и не знали те, кто жил в годы, которые были для людей лучше, чем годы демократии и в материальном и в моральном смысле. Но они были безбожными, – те годы – а потому калечили души людей в главном, в самой системе продолжения человеческого рода. И, всё же те времена были честнее хотя бы тем, что религия отрицалась открыто. При демократии же – двойные стандарты – с одной стороны, Церковь будто и не преследуется, но законы зачастую принимаются антицерковные. И убийство младенцев во чреве дозволено, и одной особи, претендующей на принадлежность к мужскому полу, дозволено выполнять роль процедурной клизмы в отношении другой особи, тоже имеющей внешний облик, напоминающий мужчину.
Бабушка тогда поведала очень многое, сокрушаясь, что не поведала раньше. Поведала она и о том, что первый мужчина, согласно учению церкви, становится генетическим отцом для всех последующих детей женщины, а потому тот, кто женится на женщине, побывавшей уже в интимной близости с другим мужчиной, должен быть готов, что дети будут не в деда, не в отца, а в проезжего молодца. Катя часто потом думала о том, что услышала от бабушки. А вскоре после того бурного разговора с бабушкой удалось узнать, что Дима не пропал, что он «направлен для выполнения интернационального долга в горячую точку…».
Удивляло только то, что не было от него писем. Писать то оттуда, наверное, можно было. Но он воевал, и это меняло дело. Даже отец сменил гнев на милость. Но однажды пришёл со службы мрачным. Долго молчал, но Катя чувствовала, что ему есть что сказать именно ей. Наконец, заговорил и поведал о том, что в госпиталь поступила партия раненых «оттуда». Он умолчал о том, как и почему зашёл разговор с одним из раненых офицеров. Просто в этом разговоре отец упомянул, что где-то служит «там» некий Дима Теремрин, которого он хорошо знает.
– Теремрин! – воскликнул офицер, – Так ведь я служил в его батальоне. Он был моим комбатом. Но, – и он, сделав паузу, сокрушенно покачав головой. – На моих глазах его… В общем, наповал. А следом и меня ранило.
Не знал рассказавший всё это офицер, а потому не узнал отец Кати, и не узнала она сама, что в первую минуту Теремрина действительно сочли убитым. Даже отнесли в сторонку и накрыли плащ-палаткой. А потом, уже после того как Труворова, посчитавшего Теремрина убитым, тоже тяжело ранило, и его срочно эвакуировали с передовой, причём без сознания, решили и Теремрина в минуту затишья перенести туда, куда переносят тех, кому уже нечего делать в госпитале. И вдруг он очнулся. Труворов о том так и не узнал, потому что сам долгое время был без сознания и кочевал из госпиталя в госпиталь, пока не попал на операционный стол к Владимиру Александровичу. Не узнала и Катя о том, что Теремрин жив, что он только ранен, хотя и очень тяжело, не узнала потому, что он долгое время не только писать, но даже разговаривать не мог.
Она глазам своим не поверила, когда увидела его живым и здоровым в санатории. Но это был он, он, именно он. И Труворов тоже, сразу или не сразу – Катя так и не поняла это – узнал его, хотя и видел его «там» всего несколько раз, поскольку прибыл в батальон незадолго до рокового боя.
Теремрин же, едва вернувшись из санатория в тот давний и памятный ему год, когда познакомился с Катей, получил приказ немедленно выехать в командировку. Сразу не написал Кате, потому что не знал, как написать, да и хотел разобраться в обстановке. А там из боя в бой.
А потом – ранение, госпитали – сначала один, потом другой, третий… Когда же госпитальные мытарства закончились, отправили на реабилитацию. Но времени прошло столько, что и не знал, как писать. Решил позвонить, когда доберётся до Москвы. Добрался, позвонил и услышал незнакомый женский голос:
– Сегодня Катенька будет поздно. Они с мужем в гостях.
– С мужем? – переспросил Теремрин и от неожиданности не нашёл, что ещё сказать.
– Да… Вы разве не знаете, что Катенька вышла замуж. А кто это говорит?
– Школьный товарищ, – сам не ведая зачем, солгал Теремрин.
И вот встреча через столько лет. Разумеется, он все эти годы даже не подозревал, что их мимолётная ночная близость не прошла бесследно. Конечно, тут можно заметить, что, вступая в близкие отношения с женщиной, мужчина должен предположить подобный поворот. Но всегда ли мы, мужчины, об этом думаем? Не ведая о том, что случилось, Теремрин сделал вывод, что женщины народ ветреный, и особенно доверять их уверениям в чувствах, не следует. Катя же, Екатерина Владимировна, вывод сделала более правильный, и она уже воспитывала своих детей, а в особенности дочку, в соответствии с этими своими выводами.
Глава третья
Синеусов в соседнем купе тоже предавался воспоминаниям. Он хорошо запомнил, как предложил Ирине выпить на брудершафт и протянул наполненный Шампанским бокал, как бокалы, встретившись, тонко звякнули.
– Что теперь надо делать? – спросила Ирина, когда они выпили, держа руки скрещенными.
Синеусов молча потянулся своими губами к её губам, а потом, не отрываясь от неё, он попытался усадить Ирину на кровать, но она осторожно и твёрдо воспротивилась этому. Поцелуй был долгим. Наконец, Ирина села на краешек кровати, а он опустился на стул. Теперь по отношению друг к другу они были и прежними, и уже немножечко другими.
– Мне, кажется, пора, – уняв мелкую дрожь в теле, мягко сказала Ирина, – А то ведь поздно уже…
– Пора-то пора, но одежда вряд ли высохла, – возразил Синеусов.
Ирина все же сходила в ванную комнату, чтобы убедиться в этом.
– Что же делать? – растерянно произнесла она, и тут же спросила с надеждой: – Утюг можно где-то найти?
– Днём можно, но сейчас бытовка закрыта.
К счастью, по телевизору начался, наконец, приличный кинофильм – большая редкость в годы перестройки, и Ирина отвлеклась. Синеусов очень хотел, чтобы она осталась, но он не мог настаивать на этом и надеялся, что всё решится как-то само собой. Он приготовил чай, он угощал её фруктами, сладостями, он всё время старался сделать ей приятное. Тем не менее, Ирина всё-таки решила, что одежда её более или менее подсохла, и быстро добежать в ней до своего санатория вполне можно. Она надела юбку и блузку. Синеусов приготовился её провожать, не смея более удерживать. И тут обратил внимание, что секундная стрелка на его часах стоит на месте. Когда остановились часы, он не знал.







