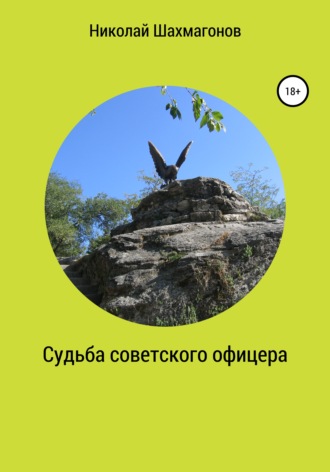
Николай Фёдорович Шахмагонов
Судьба советского офицера
Знамение
Пролог
Полночь… За окном темно. Слёзы дождя стекают по стеклу. Дождь шуршит по-осеннему монотонно и надоедливо. А на календаре – июнь. Хмурый июнь. Уж позади половина месяца, а летнего тепла, летнего солнышка всё нет и нет.
На часах беззвучно меняются цифры. Бежит по кругу суетная тонкая стрелка, отсчитывая первые секунды наступившего 17 числа. Мне памятно это число, хотя ничего, казалось бы, особенного в нём нет. Я открываю старый дневник, который вёл беспорядочно, от случая к случаю, нередко забывая даже указать дату записи. А вот под одной записью, сделанной полтора десятка лет назад, стоит не только дата, но даже время. И нечто вроде заглавия: «Знамение».
Ту запись я перечитывал не один раз. Она не была рядовой дневниковой заметкой о пережитом. На одном дыхании вылитые на страницы блокнота мысли и чувства застыли в рукописных строчках, составив нечто целостное, похожее на пролог повести, может быть, даже романа. Они требовательно и настойчиво призывали к продолжению. И я, словно слыша этот зов, много раз брался за перо. Мне хотелось продлить эту запись, развернуть её, но, сколько ни старался, ничего путного не получалось. Я рвал то, что не писал, а скорее вымучивал, и бросал в корзину для бумаг, поскольку не находил в себе того душевного настроя и той готовности к чему-то чрезвычайному и важному в жизни, решившись на что, уже не должен, не можешь остановиться, а тем более отступить. Я пытался понять, отчего не пишется, но долго не мог сделать этого. А, однажды, написал в рассказе: «У каждого литератора наступает свой заветный звёздный час, когда он, словно пробуждённый или рождённый заново, отметает свои заурядные поделки, стряхивает пыль серой прозы, и, воспарив над самим собою, рассыпает на страницах будущей книги искры вдохновенных слов, складывая их во вдохновенные фразы, главы, наконец, в произведения. И тогда он пишет, пишет, пишет, потому что не может не писать, и тогда свершается чудо – литератор, сочинитель становится Писателем в полном и ясном понимании этого слова».
Я не отнёс то, что написал, к себе. Это было бы не скромно. Я вложил эти слова в уста героя рассказа, но как мне хотелось, чтобы и со мной, рано или поздно, произошло подобное воплощение. Впрочем, как ни скрывай и как ни старайся завуалировать, в каждого достойного героя автор стремится вложить частичку самого себя, а порою даже старается подражать созданному волею воображения (не без воли Бога тайной) образу. И исполнить это не всегда бывает легко, как нелегко литератору воплотиться в особенный, в чем-то даже мистический ранг Писателя. Ведь звание Писателя не может быть дано лишь за количество изведённой бумаги на размножение типографским способом написанного пером. Оно даётся за что-то высшее, подчас необъяснимое, за сотворение Истины, облечённой в художественную форму. Именно не за творение, а за сотворение, ибо никто, кроме Творца, ничего не творит и не создает сам, а лишь сотворяет Его волею и с Его помощью. И каждый литератор, положив перед собой чистый лист бумаги, призывая на помощь Самого Творца, всё-таки надеется на эту помощь.
Я снова, в который раз, открываю свой старый дневник. Монотонно шумит дождь, успокаивая и умиротворяя этой своей монотонностью. Чтение возвращает в тот уже далекий, в тот грозовой июнь…
* * *
От Машука, величавой, украшенной мелколесьем и разнотравьем громады, наплывало на Пятигорск тёмно-вишнёвое покрывало, и от его подбрюшья, рассекаемого шпилем ретрансляционной станции, стекали по отрогам серые рваные клочья свинцового тумана. Они уже скрыли от глаз и верхнюю станцию канатной дороги, и саму линию, стальные жилы которой лишь у радоновой лечебницы вырывались из этого мутного и мрачного плена. Тёмно-вишнёвое покрывало надвигалось грозным клином, напоминавшим огромную жирную стрелу. Подобными стрелами обычно обозначают на картах наступление крупных вражеских сил. Зловещий клин заслонил полнеба, и в его мрачной тени всё замерло и затаилось – стих ветер, умолкли птицы. Город постепенно погружался в мутное марево преждевременных сумерек. Засветились обманутые этими сумерками неоновые надписи над крышами здравниц, придавая зданиям, улице, даже самому воздуху тёмно-фиолетовый оттенок. Потемнели мрачно зияющие в мерцающем свете пустые глазницы окон недостроенного здания гостиницы «Интурист». А вдали, за освещённой пока ещё лучами солнца пятиглавой громадой Бештау, уже начертил Всемогущий Художник серые, слегка изогнутые линии, напоминающие зубья частого гребешка. Там обрушились на землю тяжёлые капли дождя, сливаясь в сплошные струи.
Казалось, нельзя было не видеть приближения грозной бури. Но… Внизу, почти под окнами нового жилого корпуса военного санатория, на волейбольной площадке, как ни в чём ни бывало, шла жаркая и бессмысленная схватка одних отдыхающих с другими отдыхающими, под гомон и свист третьих отдыхающих. А мимо площадки шли, кто в город, кто из города беспечные прохожие. И у каждого была своя цель, каждый был занят чем-то очень далёким от того, чем грозило Небо. Это сравнение пришло само собой. Да! Гроза надвигалась, но не каждый был способен увидеть и оценить её…
В тот день я написал:
Увы! Не каждому судьбою
Дано увидеть, что гроза
Уже нависла над страною.
Знаменьем грозным Небеса
Ещё твердят тебе: «Очнись!
Уж миновали дни покоя,
И силы злые собрались,
Чтобы расправиться с тобою».
И неужели вся страна
До сей поры не верит стойко,
Что чашу горькую до дна
Испить заставит «перестройка»!
Да, подобно тому, как отдыхающие, отвлечённые борьбой за мяч, не замечали надвигающейся грозы, вся страна, увлекаясь суетой предпринимательства и приобретательства, была занята сиюминутными задачами, поощряемыми дезинформациями средств массовой информации, окунулась в мистику, упуская главное, не замечая приближения бури и всё ещё не думая о Боге.
Даже те люди, которые пытались очнуться, пытались разобраться в происходящем, и те под влиянием всеобщей суеты и глупости, отвлекаемые ложными сенсациями, пустыми надеждами на чудеса неведомой ещё демократии с её эфемерными свободами, теряли ощущение реальности и окунались в виртуальный мир, мир утоления «многомятежных человеческих хотений». О приятном думать всегда приятнее. Увы, многие привыкли «ехать за шторкой», о чём столь остроумно говорилось в популярном анекдоте времён застоя. Да и пересиливало частенько – авось пронесёт. Но одно дело – надеяться, что авось пронесёт мимо грозовую тучу, другое – рассчитывать на авось, когда гроза собирается над страной.
Можно ли остановить грозовую тучу, надвинувшуюся на город? Можно ли предотвратить грозу, нависшую над страной? «Невозможное человеку – возможно Богу!» Эта истина известна. Впрочем, известна она была далеко не всем. Быть может, потому-то Бог и счёл преждевременным своё вмешательство, потому-то и попустил грозу над Державой?!
Раскатистый удар дробью прокатился по небу.
И снова родились рифмы:
Как будто Божия Десница,
Сверкнула молнии заря,
И прокатилась колесница,
Неся Небесного Царя.
И горьких слёз своих потоки
Пролил Небесный Царь на нас,
Да только вот Его уроки
Понять ещё не пробил час.
С балкона виделась гроза
Во всей своей могучей силе,
О, если б Божия слеза
До струн сердечных докатилась!
О, если б укротила зло,
С беспечностью дала проститься,
Но, видно, время не пришло,
И Бог ещё не мог простить нас.
Гигантская колесница носилась по тёмному плато тучи, словно резвая тройка по булыжной мостовой, высекая ослепительные стрелы, которые метались над городом, слепя неземным светом, и бесшумно вонзаясь в землю там, где определял им место Верховный Промыслитель. Туча грозила, гремела, сверкала, пугала, но как всякое орудие кары Божьей, свершая попущенное за грехи воздаяние, теряла с каждым раскатом свои силы. Постепенно истаивали её края, размывались очертания клина. И скоро этот зловещий клин стал похож на прохудившийся бурдюк, стремительно терявший своё содержимое. Стена ливня скрыла из глаз очертания зданий и кварталов, они стали едва различимыми, но смуты не продолжаются долго, на смену мраку приходит рассвет.
Иссяк бурдюк, распался грозный клин, и на Небесной карте осталась лишь мутная пелена, подобная той, что остаётся на карте топографической после удаления с неё ластиком стрел и других условных знаков, ещё недавно обозначавших неприятеля, теперь уже разгромленного и неопасного.
А ещё через минуту-другую жаркие солнечные лучи решительным контрударом смели с Небесной карты всякое напоминание о грозовом нашествии. Очистился горизонт, воздух стал прозрачным и наполнился ароматом разнотравья, который принёс со склонов Машука свежий ветерок. Сочно зазеленели газоны, ожили клумбы, распустив цветастые покрывала. И о грозе напоминали теперь лишь мутные потоки, ещё бежавшие по дорожкам. Они уносили мусор, побеждённый светом и чистотой, но ещё цеплявшийся за выступы и ложбинки. Но и ему недолго осталось портить всеобщую картину обновления. Утром и он будет отправлен под решётки водостоков и в мусорные ямы. Такова судьба грозных нашествий, такова судьба всякого мусора, порождённого ими.
* * *
На этом дневниковая запись завершалась, причём завершалась оптимистично, хотя в то время, когда она была сделана, оснований для оптимизма было немного: страна неотвратимо погружалась в бездонную трясину перестройки, прикрываемую от глаз обманчивыми болотными пустоцветами демократии. И каждого, кто делал шаг, чтобы сорвать эти пустоцветы, сулящие эфемерные блага, мгновенно затягивали нечистоты преисподней. Падение на дно совершалось неотвратимо. Быть может, чтобы подняться, надо было упасть?
Быть может, чтобы подняться, надо было, упав, оттолкнуться от тверди Земной, подобно мячу, брошенному вниз, чтобы вновь достичь высоты Небесной? Так капля дождя, сорвавшись с тучи, падает в пыль, обращается в грязь, и лишь очистившись от этой грязи, уже в новом качестве поднимается к облакам. Круговорот воды в природе предполагает падение и возвышение. Быть может, и стране было суждено совершить этот путь по закону природы?
Но для того, чтобы подняться, нужна опора. Для того, чтобы взять правильный курс, нужен маяк. Чтобы найти опору, нужно было понять, в чём она? В мире одна опора – Бог, в мире один маяк – Истина. Предстояло прозреть, повернуться к Богу и начать Путь к Истине. А на этом великом и праведном пути предстояло преодолеть всё самое низкое, что только могут уготовить человеку слуги зла: смуту, безнравственность, пошлость, измену – то есть весь букет «ценностей» демократии «ельцинизма».
Конечно, дата, указанная в дневнике, условна. Каждому давалось своё Знамение, но не каждый его сумел прочесть и не каждый мог понять, что делать. У каждого было своё падение, своё очищение и своё воскрешение, каждому предначертан свой путь к Истине. Но выйти победителем мог только тот, кто способен правильно понять то, что лично ему предначертано Богом. Ибо случайностей в мире Божьем не предусмотрено. Имеющий очи, должен видеть, имеющий уши, должен слышать – видеть Знамения Божии, слышать Глас Божий, осознавать Волю Божию. Преподобный Серафим Вырицкий, толкуя Благовествование Спасителя, писал: «Всемогущий Бог управляет миром и всё, совершающееся в нём, совершается или по милости Божией, или по попущению Божию».
Теперь это нам понятно. Но понятно ли было в годы кровавого заката перестройки, сменявшегося мраком ельцинизма? Вырываясь из плена безбожия, мы оказывались в плену разнузданного, пошлого, безнравственного плюрализма. И далеко, очень далеко ещё было тогда до рассвета Истины. Рассвет – это Божественный свет до восхода Солнца. Как шли мы к этому рассвету? Как искали путь к Истине в гнетущие годы ельцинизма? Не поняв и не осознав этого вряд ли возможно продолжить путь. Екатерина Великая в своё время выразилась предельно точно: «Не зная прошлого, можно ли предпринимать какие-либо меры в настоящем и будущем?» Чтобы сделать первый шаг к Истине, необходимо отказаться от «многомятежных человеческих хотений» и суетных желаний, необходимо подумать о добром, и вечном. Необходимо вспомнить о великой цели существования Человека на Земле. И пока не сделаешь этого, будешь метаться в потёмках эфемерных надежд и плюрализма, метаться под тумаками демократии и искать пятый угол…
Выбраться же из трясины демократии можно только одной дорогой, одним путём – дорогой к Храму, путём к Истине. А путь к Истине невозможен без Божьего Благословения. Только Бог поможет выбрать правильный путь, только Бог поможет правильно, Православно мыслить. Ведь каждая мудрая мысль, посещающая нас на жизненных перепутьях, не есть продукт нашего внутреннего мысленного производства. Это милость Божия, указующая путь к Истине, к цели, ведомой одному Богу. Если же человек отворачивается от Бога, его существование на Земле теряет смысл.
…Хмурый июнь, лишённый солнечного тепла, истекает слезами дождей. Так человек проливает слезы, когда от него отворачивается Бог – «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» [Мф.7.8]. Ведь тогда всё рушится в жизни. И не каждому понятно, почему рушится. Нам вообще ещё многое не очень хорошо понятно в нашей жизни. Ведь, по словам о. Серафима Вырицкого, «Судьбы Божии непостижимы для человека». Нынче плачет природа. Почему плачет? Июнь – не сентябрь и не октябрь. Дожди не характерны. Скорее уж грозы… Но, быть может, это тоже Знамение? Быть может, Всемогущий Бог указывает нам на необходимость задуматься о сущем? Быть может, настала пора отвлечься от пустой суеты и прекратить погоню за утолением мятежных страстей и «хотений», от погони, которой как раз более способствует не дождливая, а погожая погода? Под шум же дождя хорошо думается. Считается, что дождь – к удаче. Считается, что в дождь хорошо начинать важное, значительное дело. Не дождь ли натолкнул меня на мысль снова взяться за перо? Не дождь ли посулил удачу? Но как бы хотелось, чтобы этот дождь был не только к удаче того, что я решился сотворить за письменным столом, а чтобы он был к удаче большого, всеобъемлющего дела, начатого нашим Отечеством в первые годы нового, многообещающего для Русской Земли века, века воскрешения веры, надежды, любви, мудрости.
Сколько раз я садился за стол, чтобы продолжить дневниковую запись! Но что-то мешало. Быть может, я ещё не готов был осмыслить минувшее? Но готов ли сейчас? Только Всемогущий Бог может благословить тот миг, когда литератор становится Писателем, когда он в состоянии назвать мусором всё, что писал прежде и подняться на новую ступень великого Пути к Истине. И пусть не дано каждому литератору самому определить этот благословенный миг, стремиться к нему обязан каждый, взявшийся за перо.
Дождь, дождь, дождь… Монотонный шелест за окном умиротворяет, мягко вливается в комнату аромат молодой ещё июньской листвы. И всё-таки этот дождь не осенний. Это июньский дождь, и теплые его капли очищают воздух, умывают дорожки, трава на газонах поблескивает в свете фонарей, выстроенных вдоль берёзовой аллеи.
Я замираю перед святыми образами, я стараюсь осознать волю Божью и решительно сажусь за стол перед чистым листом бумаги, чтобы положить на него первые строки:
«Путь к Истине»
и после некоторых колебаний уточняю:
«Офицеры России. Пусть к Истине»
и ставлю под этой определяющей строчкой короткое, но ёмкое слово: «Роман».
И уже не на бумаге, а в замысле своём определяю временные рамки повествования, обозначаю эпоху от начала падения в трясину демократии до воскрешения и преображения на Пути к Истине. И приглашаю читателя пройти с моими героями этот нелёгкий, для кого-то героический, для кого-то крестный путь.
Июнь 1989 года. Пятигорск,
Июнь 2004 года. ЦВДО «Подмосковье»
Книга первая
Только память сдаваться не хочет…
И вот уже не себя, а совершенно другого человека вижу я в лоджии санаторского корпуса в грозовой июньский день. И не с себя начинаю писать его образ, его историю жизни, стремясь создать героя той роковой эпохи, которая подобно грозовой туче накрыла страну. Автор художественного произведения не может вложить всего себя только в одного героя, ибо тогда он обездолит других. Он вкладывает свою душу во многих героев своего повествования, попутно наделяя их чертами характера близких ему людей, знакомых ему людей, разных по своим достоинствам. И если эти герои оживают на страницах произведения, если они не оставляют равнодушными читателей, а вызывают сопереживания, то сменяющиеся на страницах эпизоды и события сливаются в единое целое, получая возможность в совокупности своей называться романом, повестью или рассказом. Право же оценки дано читателю. Я жду этой оценки. Итак…
Глава первая
Из лоджии спального корпуса наблюдал за грозой, бушевавшей над Пятигорском, Теремрин Дмитрий Николаевич, человек лет сорока, роста выше среднего, наружности приятной. Его тёмно-русые волосы были слегка тронуты сединой, добрые голубые глаза придавали какую-то особенную теплоту лицу, умеющему быть суровым и властным, стройная фигура свидетельствовала о дружбе со спортом и демонстрировала далеко ещё не утраченную военную выправку. Собственно, Теремрин не случайно отдыхал в Пятигорском военном санатории, поскольку был он полковником, и не просто полковником, а истым военным – военным, как говорят, до мозга костей. С командной деятельностью он расстался давно. Не один год уже служил в Москве. Но закалка суворовского военного и высшего общевойскового командного училищ сохранилась.
В санаторий он приехал утром, успел уже до обеда пройти по терренкуру – десятикилометровой прогулочной дорожке, окаймляющей гору Машук. Послеобеденную прогулку отменил из-за собирающейся грозы, приближение которой заметил по едва уловимым признакам, знакомым скорее местным жителям, нежели отдыхающим. Но он мог считать себя до некоторой степени старожилом, поскольку провёл в этом городе, в общей сложности, если считать все приезды в санаторий, более года, ибо редкий год не бывал здесь. Гроза застала его в номере. Он любовался разгулом стихии, удобно устроившись в лоджии, в кресле-качалке. Прямая стена дождя была словно выверена по отвесу, и редкие капли залетали к нему.
Гроза – явление поразительное. То надвигается, подавляя своим завораживающе-тревожным величием и скрытою силой, и заявляя о себе предупредительными очередями громовых раскатов, то обрушивается, внезапно подкравшись, с громами, молниями и ливнем. А проходит почти молниеносно, в сравнении с долгими затяжными не грозовыми дождями. И природа после неё словно оживает, и на сердце какая-то необыкновенная лёгкость.
Но в тот день Теремрин не ощутил той обычной послегрозовой лёгкости. Он всё никак не мог освободиться от тревожных мыслей, навеянных событиями, происходящими в стране и с особой силой аккумулирующимися на столичных площадках и улицах. Из-за этой тревоги, никак не покидавшей сердце, предстоящий отпуск грозил быть не похожим на беззаботные прежние отпуска.
От раздумий оторвал стук в дверь. За Теремриным зашёл его попутчик по московскому поезду. Они приехали в Пятигорск вместе, только в разных вагонах, но уже на вокзале, по каким-то едва уловимым признакам определили, что оба прибыли именно в военный санаторий. Алексей, так звали попутчика, предложил опередить всю массу прибывших в санаторий отдыхающих с помощью такси, и они тут же, на площади, взяли машину. Благодаря этому нехитрому манёвру, получили номера, когда санаторский автобус только лишь добрался до приёмного отделения.
– Что уже на ужин? – спросил Теремрин и, посмотрев на часы, прибавил: – Рано ещё.
– А про источник забыл? Пошли на водопой.
Бювет, в котором располагался источник минеральной воды, был за территорией. Теремрин с новым своим приятелем миновали недавно отстроенную проходную, поднялись по тротуару к скверику, в центре которого возвышалась восьмигранная башенка, к которой вели с разных сторон асфальтовые дорожки. Бювет уже открылся, и возле него было людно. Дмитрий и Алексей шли к бювету и оживлённо разговаривали. Ещё утром выяснилось, что оба они – выпускники суворовских военных училищ: Теремрин – Калининского, а приятель его – Казанского. Сразу появилось множество тем для разговоров. И, конечно, одна из них была: «а у вас, а у нас». Суворовские годы в любом возрасте вспоминаются с особым теплом – ведь это незабвенные детские годы.
И вдруг Теремрин оборвал свой рассказ на полуслове и резко остановился, словно наткнувшись на невидимую стену. Посохов проследил за его взглядом и увидел миловидную женщину лет тридцати, необыкновенно изящную, со вкусом одетую, которая спускалась по ступенькам. До встречи с ней оставалось не более десяти шагов, когда она неожиданно остановилась и обернулась, явно кого-то поджидая. Затем сделала несколько шагов по дорожке и тут же замерла, остановившись на мгновение перед Теремриным. Глаза их встретились. Она произнесла… Нет, она скорее воскликнула с удивлением:
– Ты? Не может быть! – и в голосе звучали одновременно и нотки радости, и нотки ужаса.
Впрочем, она была в оцепенении совсем недолго. Кто-то позади неё привёл её в чувство, окликнув:
– Катя…
Она повторила, пристально глядя на Теремрина:
– Не может быть?! Дима, Димочка… Я не верю своим глазам. Ты же, ты же ведь, – но тут же нервозно обернулась и шепнула, указав кивком на мужчину, догонявшего её: – Муж…
Теремрин не успел опомниться. Она же, больше не сказав ни слова, быстро пошла вниз по дорожке, ведущей к военному санаторию. Тот, кого она назвала мужем, поравнялся с Теремриным, и тут на лице его отразилось удивление, не меньшее, чем у жены. Было такое впечатление, что мужчина знал его. Теремрин же сразу не мог припомнить, где видел его прежде.
– Стало быть, вот он каков, этот муж, – проговорил Теремрин, проводив взглядом удалявшегося незнакомца, и тут же подумал: «Но почему он так посмотрел на меня? И почему столь поспешно удалилась она? Что уж тут криминального в том, что встретила старого знакомого… Впрочем, кто знает, кроме нас двоих, каким было наше знакомство?»
– Героиня романа минувших лет? – спросил, наконец, Алексей Посохов, которому надоело стоять на том самом месте, где произошла встреча Теремрина с этой загадочной женщиной.
Спросил скорее ради того, чтобы вывести его из оцепенения, нежели удовлетворить своё любопытство: мало ли подобных встреч на курорте?
– Да, – отозвал Теремрин, и после небольшой паузы задумчиво добавил: – Очень давно минувших и, как видишь, минувших безвозвратно.
– А она хороша, – сказал Посохов и вопросительно посмотрел на Теремрина, желая увидеть реакцию на эту свою оценку.
– Пожалуй, даже краше стала, – отозвался тот. – Есть в женской зрелости своё очарованье. Ты сказал: героиня романа? – вдруг переспросил Теремрин. – Романа ли? Когда мы встретились, ей было восемнадцать. Какой уж там роман!? То был не роман, – со вздохом прибавил он и заключил: – Да стала краше…
Посохов хотел спросить ещё что-то, но Теремрин, предваряя вопрос, поторопил:
– Пошли, а то на ужин опоздаем. Как-нибудь расскажу, хотя, – он больше ничего не сказал, и, преодолев одним прыжком три ступеньки, вошёл в бювет.
Воду пили молча. Посохов не мог не заметить, что Теремрин никак не может унять волнение. Какие-то мысли тревожили его. По пути в санаторий он был молчалив.
– Ну что, после ужина танцы? – спросил Посохов, полагая, что Теремрин более не хочет возвращаться к тому, что произошло у бювета.
– Может быть, и танцы. Да, да, конечно.
Видно было, что он продолжает думать о мимолетной встрече. Двери в столовую ещё были закрыты, и приятели остановились на небольшой площадке перед входом, обсаженной густым кустарником по периметру. Сели на скамейку. И тут Теремрин заговорил сам.
– Давно это было … Впервые я приехал сюда ещё капитаном. Как раз в тот год врачи определили нелады со здоровьем, и отставили от поступления в академию. Ну, а лечился я здесь различными методами, средь которых терренкур и танцы занимали далеко не последнее место. Тем более, служил я тогда в гарнизоне, несколько отдалённом от благ цивилизации. Посохов удержался от уточняющего вопроса, не желая сбить собеседника с настроя на откровение.
– Танцевал я более чем недурно, – продолжал Теремрин, но, представь, в те годы, а было мне двадцать восемь, я мог найти партнёршу только старше себя, причём, как минимум лет на пять. В этом санатории молодежь практически не отдыхает.
– Да уж, – вставил Посохов. – Я это заметил.
– Было лето, – не обращая внимания на реплику, продолжал рассказ Теремрин. – Танцевали тогда на летней площадке. Вон там она, – кивнул он, – мы проходили мимо.
– Да я ж разве не сказал? – снова вставил Посохов. – Не раз бывал здесь.
– Тем более. Тогда всё знаешь. Так вот, выбор у меня был, весьма своеобразный. Но однажды меня пригласила на белый танец совсем ещё девчонка. Ей только-только, как потом выяснилось, исполнилось восемнадцать лет. И месяца не прошло… Танцевала неплохо, и что меня обрадовало, умела вальс. Это уже ведь и в те годы было редкостью. А теперь, – Теремрин махнул рукой, – теперь и вовсе среди молодежи таких, кто умеет танцевать, не встретишь. Одно слово – не танцы ныне, а скачки.
Он помолчал, лицо озарила светлая, добрая улыбка, вызванная очень, видимо, приятными воспоминаниями.
– Ты знаешь, бойкая оказалась девчонка. Призналась, что заметила давно, как я хорошо танцую. Поведала, что отдыхает с родителями, и что до сего дня ей разрешалось наблюдать за этим родом «лечебных процедур» только издали. Хотя и просилась на танцы, да аргумент у родителей был железный – куда, мол, пойдёшь, там одни старики. Но, наконец, упросила, указав именно на меня. Нашла, мол, одного «не старика».
Я поинтересовался, сколько её лет, не считая нужным говорить «вы» и подчеркивая, что считаю её совсем ребёнком. Она ответила: «Восемнадцать. А вам?» Пришлось ответить, что на десяток лет больше. Подчеркнул, что тоже, мол, в её понимании «совсем старик». Ответила: «Совсем нет». Признаться, знакомство с девушкой, почти ребёнком, к тому же отдыхавшей с родителями, в планы мои не входило. Сам понимаешь, по какой причине. Поэтому, когда медленный танец закончился, я проводил её до скамейки, чтобы, поблагодарив за приглашение, тут же и оставить. Но все места оказались заняты. Пустыми лавочки бывали тогда лишь, когда исполнялась музыка джунглей и африканских, а если точнее, американских обезьян.
Оба улыбнулись сравнению. Теремрин после паузы заговорил снова:
– Одним словом, поискал я глазами, куда бы её усадить, но ни одного местечка не нашёл. Оставить же просто так, в толпе, показалось как-то неловко. А тут вдруг поплыли над нами аккорды вальса, да ещё самого моего любимого в то время. Я посмотрел на неё и только теперь заметил, что она очень даже привлекательна. Ну и спросил: «Вальс танцуешь?» Она ответила с надеждой в голосе: «Да, да, конечно…». «Тогда вперёд!». Ты не подумай, что я не умел быть галантным. Напротив. Сама изысканность в обращении с женщинами. А тут никак не мог избавиться от некоторой небрежности. Уж больно молода, даже не молода, а мала годами она мне показалась. Я досадовал, поскольку путала она мои планы.
– Ну и как вальс? – спросил Посохов, чтобы только поддержать разговор, давно уже превратившийся в монолог.
– Танцевала она великолепно. И ты знаешь, чем больше я к ней присматривался, тем больше она мне нравилась. Русые волосы, внимательные быстрые глазки. Пожалуй, даже не голубые, а такой яркой небесной синевы. Гибкая, хрупкая. Рост, ну рост ты, впрочем, видел… Ростом как раз для меня. Танцевать было с ней…
– Комфортно, – вставил Алексей.
– Определение точное, – отрубил Теремрин.
– Танцор ты, вижу, заядлый, – с улыбкой сказал Посохов. – Сегодня посмотрим, как это у тебя получается.
– В тот вечер я был в ударе, – продолжал Теремрин. – Во время вальса на нас даже обратили внимание, и певица, которая вела вечер, заявила: «Поаплодируем этой паре». И указала на нас. Партнёрша моя разрумянилась. Глаза светились радостью. Ну, сам понимаешь, как тут бросишь?!
– Ещё не знала, в какие руки попала, – вставил, смеясь, Алексей.
– Не о том говоришь, – возразил Теремрин. – Ни о чём таком, о чём мы обычно думаем, знакомясь в санатории с женщинами, я и не помышлял.
– Так уж и не помышлял? И до чего вы дотанцевались под родительским оком?
– Да как тебе сказать? В двух словах не скажешь.., – начал он, но тут двери отворились, и работница столовой пригласила всех на ужин.
А минуту спустя, поднявшись на второй этаж в обеденный зал, Теремрин снова увидел Катю. Она уже сидела у окна, а муж только ещё усаживался и был обращён к Теремрину спиной. За столом ещё была девочка, но на неё Теремрин внимания не обратил, да и лица её не видел со своего места. Катя заметила его и, очевидно, в глазах её мелькнуло что-то такое, что заставило мужа обернуться. И снова Теремрин ощутил на себе цепкий, пристальный взгляд.
– Как её имя-то? – спросил Посохов, когда они сели за свой столик.
– Катя, – ответил Теремрин и прибавил: – Муж её как-то странно на меня смотрит. Словно знает меня или что-то о наших с ней отношениях ему известно.
– Что-то есть пикантное, что он может знать? – поинтересовался Посохов.
– Конечно, есть… Но он словно что-то знает, чего не знаю я, – уточнил Теремрин.
На этом разговор закончился, потому что принесли первое блюдо, да к тому же за столик сели соседи.
А на следующий день, едва Теремрин вошёл после утренних процедур в столовую, Посохов, который уже завтракал, буквально ошеломил его:
– Я сейчас нос к носу столкнулся с этим семейством. Они отдыхают не одни. С ними дочь…
– Я догадался. Это девочка, что сидит лицом к окну. Ну и что?
В том то и дело, что она, девочка эта, как две капли воды похожа на тебя.
– Ты шутишь!? – не поверил Теремрин.
– Этим не шутят. Сам посмотри. Убедишься, что я прав. К тому же, со стороны виднее. Я сам остолбенел, когда увидел, – убежденно говорил Посохов.
Некоторое время оба молчали. Потом Теремрин спросил:
– Они уже позавтракали?
– Да. Я их встретил, когда они выходили из столовой.
На какое-то время отвлекла официантка, подавшая очередное блюдо. После паузы Посохов, не выдержав, спросил:
– Ты скажи, это возможно?
– А сколько лет девочке?
– Ну, может двенадцать, тринадцать. Так, кажется, на вид.
– Значит, возможно… Но я этого и предположить не мог.
Он долго молчал, и Посохов не тревожил его. Лишь когда вышли из столовой, спросил:
– Какие у тебя сегодня планы?
– Я на терренкур… Хочешь составить компанию?
– В другой раз. В Кисловодск собрался. Нужно кое-кому местные достопримечательности показать, – пояснил Посохов.







