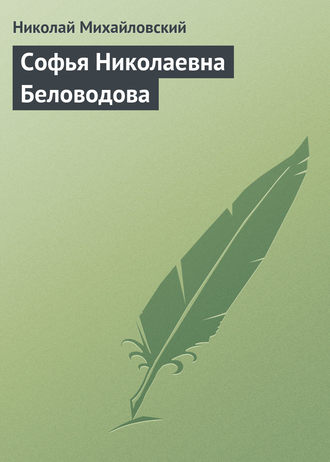
Николай Михайловский
Софья Николаевна Беловодова
Губы у нее никогда не сжимаются под влиянием сдавленной мысли, затаенного, страдальческого чувства, никогда не открываются, когда она молчит от наивного удивления или радости, или от отсутствия содержания в голове…»
Человек ли это, живой ли это человек по крайней мере? Не простой ли, искусно сделанный автомат? Достаточно ли, что у нее не открывается рот, когда она молчит, того инстинкта, вследствие которого и рыба не выйдет на берег и птица не окунется в воду, чтобы можно было сказать, что у нее есть ум? Достаточно ли того, что чувство ее не уступило другому чувству потому только, что оно не было вызвано на борьбу, что у нее была своя воля? Достаточно ли этого чувства и всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете, чтобы можно было сказать, что она чувствует, что у нее есть истинное чувство? Не просто ли это тихая улыбка спящего ребенка, спокойного потому, что он не знает жизни, но не отражающая его чувств, его микроскопической внутренней жизни? Можно ли после этого сказать, что Софья Николаевна живет, что ее чувства вполне напряжены? Конечно, нет. Райский был прав, когда называл ее картиной: это не больше, как прекрасная, но безжизненная, никогда не меняющая красок картина.
В другом месте Райский сравнивает ее с олимпийской богиней, хотя на Олимпе жили не для общества, положим, как на земле, но все-таки чувствовали, любили, ненавидели, а Софья Николаевна не знает этого ничего. Она, может быть, Венера, Юнона, Геба, но только телом, а не душой. Души… как-то неловко вымолвить… у нее нет.
«Напрасно он (Райский), слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее: что она? Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения, без наивного сострадания, и карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщий, продолжительный хохот, вызывала у нее только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшею с ней в ложе женщиной, взгляд. Напрасно он ждал, не затрепещет ли во взгляде у нее искра участия к страдальцу, не опустятся ли быстро ресницы, чтобы скрыть колебания, слабость, не уступят ли нервы чему-нибудь, хоть чувству стыдливости от какого-нибудь тайного движения сердца, не поддастся ли она при нескромном намеке нервически назад, не сделает ли умышленно скромного или небрежного взгляда, не шепнет ли что-нибудь соседке, чтобы скрыть движение – ничего, ничего: все в ней блеск, все спокойствие, все безукоризненная, сияющая чистота, как будто нет у нее желаний, нет воспоминаний, нет и не было ничего тайного, закрытого от всех побуждения, как будто бы нечего ей стыдиться в мире; не смущает ее ничто… как будто бы она говорит этим простым, на все одинаково смотрящим взглядом: да, я знаю, я слыхала, что люди плачут, любят, страдают, знаю, что есть это море, жизнь, в котором кипит всякая всячина, но я на берегу, я не обязана купаться там, я защищена, укрыта».







