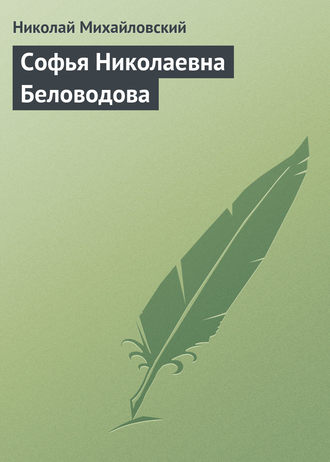
Николай Михайловский
Софья Николаевна Беловодова
Следовательно, Софья Николаевна не более как статуя. Райский, как Пигмалион, хочет вдохнуть в нее жизнь.
Райский входит старым знакомым в рассказ, почти без доклада. Автор почти не знакомит с ним читателя. Зато сам Райский дает себя знать…
Райский как-то ужасно напоминает восторженного заклинателя духов. Он становится в приличную позу и с приличными движениями заклинает духа тьмы и покоя оставить прекрасное тело Софьи Николаевны. Он говорит с самой пациенткой, говорит с портретами, поднимает портьеру, становится на колени, просит, умоляет, грозит – ничто не помогает: пахотинщина сильна. Тисков, сжимающих волю, ум и чувства Софьи Николаевны, не в состоянии даже и ослабить красноречие Райского.
Теперь взглянем на Софью Николаевну в жизни действительной, а не в рассказе г. Гончарова, взглянем, возможен ли этот тип пустоты, совершенного бессердечия и нравственного застоя.
Душа требует деятельности. Это ее потребность, ее насущный хлеб. Этой потребности не заглушить ничем. Убивая в себе или в ком-нибудь другом какое-нибудь чувство, мы вместе с тем порождаем другое, ему противуположное. Это самый простой и понятный закон движений души в человеке.
Г. Гончаров говорит, что чувство Софьи Николаевны не было вызвано на борьбу. Мы не понимаем, как чувство, оставаясь чувством, может быть не вызвано на борьбу: борьба есть его жизнь, оно существует только тогда, когда борется с чувствами противуположными. Да, наконец, борьба была в Софье Николаевне, – по крайней мере должна была быть; но г. Гончаров не обратил внимания на этот пункт и не представил нам жизни сердца Софьи Николаевны в занимательнейшую эпоху ее жалкого существования, – в эпоху, когда оно в последний раз конвульсивно забилось, – в эпоху его предсмертных судорог.
Софья Николаевна любила раз в жизни, если только можно назвать любовью это неопределенное безотчетное влечение к Ельнину. Мать обратила внимание на это уже тогда, когда оно достигло высшей степени своего развития, когда дочь ее решилась, презрев общественные предрассудки, протянуть при всем пустом и блестящем обществе учителю руку. Мать разом прекратила эту любовь; она отказала Ельнину от дома и сделала сцену дочери. Неужели любовь до такой степени сильная, что Софья Николаевна, уже подавленная деспотизмом матери, решилась идти ему и общественному мнению наперекор, неужели такая любовь могла погибнуть, не оставив никаких последствий. Неужели Софья Николаевна не возненавидела деспотизма матери, не пыталась после этого сбросить его? Неужели не происходило в ней борьбы? Не верим этому, не верим, чтобы после всего в ней осталось только чувство всеобщего благоволения.







