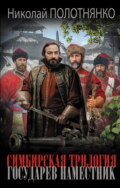Николай Полотнянко
Атаман всея гулевой Руси
Приказчик принял поданную ему мзду и кисло поморщился.
– Рожа, гляжу, у тебя воровская, а ты её вздумал двумя алтынами прикрыть. А ну, ребята, порастрясите его!
Двое стражников накинулись на Федота, сорвали с него кафтан, сняли сапоги, опростали суму, но ничего не нашли, что можно было присвоить.
– На сей раз я тебя отпускаю без битья, – сказал приказчик. – Ступай, но в другой раз пустым на мой перевоз не являйся, изведаешь палок досыта.
Обуваясь, Федот зло пришёптывал:
– Годи, трухлявый пень, будет случай, явлюсь сюда и вздёрну тебя на веску!
Подхватив суму, он пустился догонять попутчиков, которые скоро уходили от Суры в сторону карсунской дороги. Максима случай на сурском мосту смутил, до него стало доходить, что в пустом пограничном краю каждый человек известен, а на беглых людей здесь много ловцов, и не все они полоротые, как таможенный приказчик. А Савва не унывал.
– Узнал, Максим, какая сила приказная грамотка? – похвалился он своей находчивостью. – Не изготовь я её, худо пришлось бы тебе.
– Один раз она меня выручила, а на другой раз? Найдётся грамотей и отыщет какую-нибудь в ней зацепку. Добро бы до Синбирска дойти и грамотку никому не являть.
Они прошли по карсунской дороге верст десять, как Влас остановился и, забравшись на телегу, осмотрелся вокруг.
– Сдается мне, что мы лишку прошли, – сказал он. – Починок где-то на берегу Барыша, а мы от него всё отходим и отходим. Сейчас до реки версты две-три будет, надо найти берег и идти по нему до жилья. Выпрягай, Андрейка, кобылу и пробеги до Барыша, сыщи починок.
– Я с ним пойду, – Максим стал снимать с Солового вьюк.
– Тебе же в Синбирск, – удивился Влас. – Савве тоже, а Федотке неведомо куда. Ступайте, мужики, своей дорогой и не тяготитесь моей заботой.
– Поезжай, Максим, – сказал Савва. – Синбирск от нас не убежит, мы можем и подзадержаться. Вот глянем, как живут переселенцы, и пойдём своей дорогой.
– Вместе прогуливаться в незнакомом месте веселей, – поддержал Федот Савву. – Я тоже не спешу, меня, кроме матери-Волги, никто не ждет.
Парни сели на коней и поехали по луговине к невысокой гриве, взобрались на неё, помахали оставшимся их поджидать людям и пропали из вида.
– Вставай, Влас, на днёвку, – сказал Савва. – Они вернутся не скоро. Раньше вечера мы на месте не будем. А утром оглядимся, если надо, поможем тебе землянку слепить и пойдем на Синбирск.
Глава вторая
1
Через три дня путники достигли неширокой и тихой речки Свияги, за которой на горе россыпью изб и главами церквей виднелся град Синбирск. У въезда на мост на них хмуро глянул караульщик, но не остановил, поскольку сразу смекнул, что поживиться с этих прохожих ему будет нечем – один монах, а двое других явно люди бывалые и привычные за себя постоять.
За мостом Федот остановился и огляделся.
– Давайте, дружьё, прощаться, – сказал он. – Мне в город идти не с руки, я лучше обойду его стороной.
– Куда же ты направишься? – спросил Максим.
– На Волгу, – ответил Федот. – За волей и счастьем нечего на Пещаное море идти, его и недалече, за Синбирской горой, сыскать можно. Айда со мной, а то как раз тебя в Синбирске ярыжки опознают как беглого.
– Я пока воли не ищу, – отказался Максим. – А в граде обязательно побывать должен, людям обещал.
– Что ж, вольному воля, – сказал Федот и, не оглядываясь, пошёл по берегу Свияги.
– Гулёвой человек, – сказал Савва. – Сразу видно, что ему матушка – сабля вострая, а батюшка – воровской атаман.
По разбитой тележными колесами дороге они поднялись в гору к посаду и пошли по улице мимо заборов, за которыми стояли избы, частью свежерубленные, частью обгорелые.
– Видно, пожар недавно был, – сказал Савва. – Дело обычное. Но крепость цела. Что, Максимушка, пойдём к воеводскому крыльцу, явим грамотки, ты свою не потерял?
Максим поскучнел, идти к воеводе ему не хотелось. Хотя Савва и горазд писать, но местные дьяки тоже не слепы, а ну как узрят, что грамота писана не в Москве, а на осиновом пне близ большой дороги? Страх подумать, что будет и с ним, и с писарем.
– Погодим идти, батька, – сказал Максим. – Мне здесь на посаде одного человека проведать надо.
– Это кого ж?
– Сам не знаю, – уклончиво промолвил Максим. – И тебе его знать незачем. Ты лучше ступай на зады, вон к тому амбару и будь близ него, я тебя отыщу после.
– Ладно, – сказал Савва. – Но ты не пропадай до ночи.
– Иди, иди! – поторопил спутника Максим, увидев, что от Свияги к ним подымается воз и рядом с ним, держа в руках вожжи, идёт мужик.
– Как не знать Андреева Ивана Ермолаевича, – сказал возчик. – А на что он тебе?
– Я тебе не про дело говорю, – обозлился Максим и грозно воззрился на него. – Я тебя спрашиваю, где его изба?
– Да я так, слова ради спросил, – испугался мужик. – Экий ты бедовый! А Иван Ермолаевич недалече живёт. Вон его изба под новой крышей!
Держа в поводу коня, Максим пошёл по улице. Было жарко, обыватели посада, свято блюдя обычай послеобеденного отдыха, попрятались по избам, сеновалам, другим прохладным местам и предавались сну. Фыркнув, Соловый потревожил дремавших под ивовым кустом кур, они прыснули в разные стороны, а петух отважно зыркнул на Максима огнистым оком и, захлопав крыльями, хрипло заголосил.
Домовладение мельника Андреева отличалось от прочих высокой, из крепких сосновых кольев городьбой, за которой изб не было видно. Земля возле ворот была присыпана речным песком, рядом с ними находилась коновязь. Максим привязал коня и несколько раз брякнул воротной колотушкой. Послышались быстрые и легкие шаги, оконце в воротах распахнулось, и раздался молодой голос:
– Кого ищешь?
– Мне бы хозяина, – сказал Максим. – Я к нему от Автонома Евсеева, с Теши.
Загремели запоры, ворота распахнулись, и появился молодой широкоплечий парень.
– Конь твой? – спросил он и, не дожидаясь ответа, отвязал Солового от коновязи. – Заходи, что стоишь? Здесь все свои. А меня Ермолаем кличут.
Двор был застроен многими избами и амбарами. Максим вслед за сыном хозяина прошёл до крыльца. Ермолай взбежал по ступенькам, стукнул кулаком в дверь, открыл её, вошёл и через мгновенье высунулся.
– Заходи!
Мельник Андреев сидел спиной к стене на скамье, положив руки на стол. Максим перекрестился на образа и почтительно поздоровался с хозяином, назвав своё имя.
– Как дорога? – спросил Иван Ермолаевич. – Поди, всё лесом?
– И так было.
– Ты один шёл или с людьми? Может, кого сюда привёл?
– Есть попутчик, переписчик книг Савва, – сказал Максим. – Я его на задах подле амбара оставил дожидаться.
Хозяин стал явно недоволен.
– Давай посылку.
– Прикажи парню принести поклажу с коня.
– Неси, Ермолай. А потом сбегай за этим Саввой и приведи сюда, да так, чтобы никто не видел.
Ермолай принёс вьюк, Максим рассупонил завязи, развернул поклажу, взял свой рабочий ножик и стал распарывать мешковину по шву. Грамотки были завернуты в бычьем пузыре, чтобы не промокли. Достал их, отдал хозяину. Тот увидел кузнечные орудия и улыбнулся.
– Ты и взаправду кузнец?
– Кое-что умею, – сказал Максим. – Но до конца не выучился. Хозяин помер, и я достался его брату.
– Так ты холоп?
– Отец себя запродал, и нас с матерью.
В избу вошёл Ермолай и вопросительно посмотрел на отца.
– Привел попутчика?
– У крыльца оставил.
– Добро. Запри его в амбар. А ты, Максим, побудь здесь. Принеси ему, Ермолайка, из поварни что-нибудь поесть. Я скоро вернусь.
Ермолай принес чашку рыбы, кувшин квасу, ломоть хлеба и удалился. Максим услышал, как он громыхнул засовом двери, и усмехнулся. Заточение его не огорчило, рыба оказалась вкусной, хлеб мягким и теплым, квас шипучим и острым. Он поел и, положив шапку под голову, лёг на лавку. Только закрыл глаза, и привиделась Любаша, какой он её запомнил во время последней встречи. Не хотела она уходить от него, словно чувствовала разлуку. Где она сейчас, да и жива ли?
В сенях послышались тяжелые шаги, дверь в горницу распахнулась. Максим закрыл глаза и прикинулся спящим.
– Вставай, странничек! – сказал Иван Ермолаевич. – Огляди, Степан Ерофеич, гостя.
Максим опустил ноги на пол, поправил рукой волосы на голове. Поднял глаза и натолкнулся на цепкий взгляд незнакомца. Тот смотрел на него так остро, будто крючок ему в самую душу забросил и всё оттуда тянул да вытягивал. Максим смутился и потупился.
– Не бойся, парень, – сказал Андреев. – Этот человек может стать твоим счастьем, если приглянешься ему. Это сам Твёрдышев. Слыхал про него?
– Пока нет.
Степану Ерофеевичу, купцу гостиной сотни, чье имя было на всей Волге знаменито, такой ответ был в диковинку и посему понравился. Он сел на скамью напротив Максима и спросил:
– Ты как Автонома Евсеева знаешь? Говори всё, как есть.
Услышав в конце исповеди, что Максим пришёл не один, а привёл с собой учёного монаха, Степан Ерофеевич заинтересовался, коротко бросил Андрееву:
– Показывай этого Савву, переписчика!
Монах даром времени не терял и явился заспанный, ряса в клочьях соломы, в бороде паутина. Испуганно глянул на Максима: мол, за что беду ты, парень, накликал на мою седую голову – сначала в амбар кинули, а теперь розыск хотят учинить.
– Ты что, и в самом деле переписчик? – спросил Твёрдышев.
Эти слова враз успокоили Савву, о своем рукомесле ему отвечать было привычно. Он развязал свою суму, достал из неё «Казанскую историю» и положил на стол.
Твёрдышев взял книгу, перелистал её, прочитал последнюю страницу и сказал.
– Вижу, что ты и впрямь переписчик, таким цены нет. Но что тебя согнало с Москвы, здесь твоё рукомесло никому не потребуется?
– Тягостно мне стало, господине, от новых церковных порядков, вот и ушёл, куда глаза глядят.
Твёрдышев ненадолго задумался, затем промолвил:
– Мне такой человек, как ты, нужен. Согласен на меня работать переписчиком? Вестимо, за деньги.
– Куда ж мне, сироте, деваться? Доброму человеку не грех послужить, – сказал Савва. – Возьми тогда, господине, и парня. Он честен и дело знает.
– Что умеешь? – спросил Твердышев.
– Кузнечное дело знаю, – тихо промолвил Максим и толкнул ногой суму с железными инструментами.
– С ним непросто, он ведь беглый, – задумчиво произнёс Твёрдышев. – А государевы сыщики и в Синбирске шарят.
– Я ему грамоту сделал, – сказал Савва. – На аглицкой бумаге.
Максим достал бумагу и подал Твёрдышеву. Тот её развернул, прочитал и усмехнулся.
– Наш подьячий Никита Есипов грамотей не слабее тебя, Савва. Он сразу узрит, что сия грамотка писалась не в московском приказе, а в подворотне на коленке. Где у тебя огонь, Иван Ермолаич? Возьми и сожги эту писульку немедля, она парню ничего, кроме батогов, не сулит.
– Зачем жечь аглицкую бумагу, она денег стоит? Отдай её мне, я повыскоблю написанное и по-другому разу, будет нужна, напишу, – сказал Савва.
Но Твёрдышев ему грамоту не отдал, порвал на несколько кусков и бросил на стол.
– Для тебя, Савва, у меня непочатая стопа аглицкой бумаги имеется. Сейчас мы пойдём являться к князю Дашкову, а затем я тебе укажу твоё место в своей избе. Там у тебя будут и стол, и бумага, и перья, и чернила, и лавка для спанья.
– Степан Ерофеич, – сказал Андреев. – Куда решишь парня пристроить? Может, ко мне на мельницу?
– Добро. Пусть у тебя побудет, в стороне от чужих глаз. А там я подумаю, как ему помочь.
Максим с жадностью внимал словам сильного человека, а Иван Андреев толкнул его в спину.
– Кланяйся, дурень! Благодари Степана Ерофеича за милостивое слово.
Максим прямо с лавки упал на колени и стукнулся лбом о пол.
2
Когда Твердышев и Савва подходили к Синбирскому кремлю, колокол на надвратной башне Крымских проездных ворот звучно, на всю округу, отмерил девятый час дня. Воротник Федька Трофимов подобострастно поклонился Твёрдышеву и хмуро посмотрел на семенившего рядом с шибко шагавшим купцом Савву, которого весьма удивило множество ратных людей вокруг.
– На Низу Стенька Разин большую силу взял, – сказал Степан Ерофеевич. – Грозит своей вольницей самой Москве. Вот мы силы копим, на днях подошли приказы московских стрельцов.
Савва поежился, ему были ведомы повадки воинских людей, которые страшились только палок своих начальников и были не прочь пограбить обывателей, если те плохо запирали ворота своих домов.
Воевода князь Дашков по случаю жары прохлаждался под шатровым крыльцом съезжей избы, где его обдувало свежим ветерком с Волги. Князь был седоголов, но ещё весьма проворен в движениях, особенно когда его что-нибудь досадило. Час назад он получил думскую грамоту, что воеводой в Синбирск назначен князь Милославский. Дашков расценил это решение государя Алексея Михайловича как явную каверзу, устроенную супротив него московскими недоброжелателями, и долго вычитывал грамоту. Затем начал метаться по крыльцу и размахивать руками, чем немало удивил московского стряпчего, который доставил грамоту в Синбирск. Утомившись бегать, он остановился и спросил вестовщика:
– Что знаешь о Милославском?
– Князь отправился следом за мной, – ответил стряпчий. – Ему велено для скорости идти не водой, а посуху и обоза с собой не брать.
– К чему такая спешка? – задумчиво произнёс Дашков. – Ты ведь трёшься подле царского крыльца, многое ведаешь. Может, слышал, почему мне такая немилость?
– Не волен я входить в рассуждения сильных людей, – сказал стряпчий. – Правда, краем уха слышал, что в Синбирске будут ждать мятежников с волжского Низа, посему решено на град поставить Милославского, а также дать ему в подмогу князя Барятинского с двумя полками рейтар.
– Что ж они, вора до Синбирска думают допустить, – удивился Дашков. – А что астраханские воеводы? Разве у них нет мочи уничтожить воровских казаков?
– Того я не ведаю, князь, – сказал стряпчий и потупился. Он был разбит до последней жилки своего тела гоньбой по лесным дорогам, смертельно устал и ждал только одного – упасть на лавку и провалиться в беспамятный и мутный сон. Это увидел и воевода.
– Есипов! – крикнул он. – Проводи вестовщика в осадную избу, пусть отоспится.
Подьячий повёл москвича на отдых, и Твёрдышев с Саввой столкнулись с ним на полпути.
– Как воевода? – спросил купец.
– По крыльцу мечется, – усмехнулся Есипов.
– Что так? Чем князь огорчён?
– Сей стряпчий привёз воеводе в перемётной суме полный воз новостей. На Синбирск воеводой поставлен князь Иван Богданович Милославский.
Известие было для Твёрдышева огорчительным: Дашков давно сидел на воеводстве, и купец научился с ним обходиться. Почти все кабаки в Синбирском уезде и в самом граде были у Твёрдышева в откупе, ему же принадлежали крупные участки рыбных ловель на Волге, со всего этого хозяйства он получал большие доходы, не забывая при этом полновластного владыку здешних мест, воеводу Дашкова. Брал князь деньги у купца, порой до тысячи рублей, на оплату жалованья служилым людям, потому что Москва часто задерживала выдачу денежного содержания стрельцам и казакам. И сейчас за воеводой имелось шестьсот рублей долгу, поэтому Степан Ерофеевич поспешил к воеводской избе.
Князь Дашков уже успел укротить всколыхнувшееся в нём чувство обиды и начинал подумывать, что утрата воеводства ему может выйти как раз на руку. Скоро на Волге начнется такая кровавая смута, что лучше от этих мест быть подале, к примеру, в родовой вотчине, куда Дашков не заглядывал уже пять лет, отданных синбирской службе. Пусть Милославский воюет с воровскими казаками и всякой другой сволочью, а я, размышлял князь, хоть и саблю не вынимал из ножен, но достойно служил великому государю на Синбирске: добрый городок Сенгилей поставил, до двухсот дворян наделил поместьями по обе стороны Волги, и за Синбирской крепостью догляд держал, ни пожара, ни мора при мне здесь не было, прясла подправил новыми сосновыми и дубовыми срубами, в пороховом погребе под крышку припасено зелья и свинца в чушках, в амбарах запасены солёная рыба, мука на случай приступа, казакам и стрельцам полностью отдано денежное довольствие.
Эти размышления утешили Ивана Ивановича, и он крикнул, чтобы ему принесли квасу, настоянного на винных ягодах, сладкого и слегка веселящего разум заморским хмелем. Окончательно смыв квасом горечь от худой московской вести, Дашков весёлым взглядом оглядел всё вокруг и увидел, что к нему идёт Твёрдышев с каким-то монахом.
«Рублей двести я с него на прощальный поминок возьму, – мелькнуло в голове князя. – У Твёрдышева мошна тугая, на десятки тысяч».
– Будь здрав, милостивый князь! – промолвил, степенно поклонившись, купец. – Вот являю тебе сего смиренного инока Савву, которого я беру себе переписчиком.
Дашков окинул Савву скорым взглядом и погрозил купцу пальцем.
– Знаю я твои переписи, Степан Ерофеич, – молвил, улыбаясь, он. – Ведь не твои приходы-расходы будет переписывать, это ты в голове держишь. А станет сей мних строчить списки с раскольничьих грамот, коими наводнена уже Русь, из Пустозёрска,
Твёрдышев с улыбкой встретил притворно суровый взгляд воеводы, а Савва похолодел от страха: он бежал из Москвы от огня никониан, а в Синбирске, кажется, попал в полымя.
– Давно я хотел, князь, иметь список «Казанской истории», – сказал Степан Ерофеевич. – Теперь Савва мне его исполнит.
– Против этого у меня нет запрета, – сказал Дашков. – Ты ведь знаешь, Степан, я к старой вере терпим. Протопопа Никифора терпел и укрывал, пока вселенские патриархи на Синбирск не наехали и его не расстригли. Хороший был поп, но погиб, как дурак, царствие ему небесное.
Воевода истово перекрестился, отпил квасу и улыбнулся.
– Волей великого государя я освобождён от розыска над тобой, Степан Ерофеевич. На Синбирск поставлен князь Милославский. Пусть у него теперь голова болит о раскольниках и воровских казаках, которые, кажись, надумали устроить между собой стачку против великого государя. Говорю тебе, как некогда попу Никифору: уймись, Степан, со своим расколом и крепче держись за свою мошну. Охота тебе этих трутней, что себя жгут, рублями осыпать, не купецкое это дело.
– Я дело своё завсегда в уме держу, – спокойно сказал Твёрдышев. – За тобой, князь, долг есть в шестьсот рублей. Что будет стоить твоя поручная запись, когда явится Милославский?
– Долг не на мне, а на казне, – возразил Дашков, пытливо вглядываясь в глаза Твёрдышева. – Может, ты по-другому мыслишь?
Степан Ерофеевич подошёл к крыльцу, поднялся по ступенькам и тихо произнёс:
– Сам знаешь, Иван Иванович, что Милославский от долга не откажется, но отдавать не поспешит. Посему есть у меня для тебя слово.
– Говори, – сказал воевода и замахнулся на некстати выскочившего из избы слугу. – Умное слово никогда не повредит.
– Давай, Иван Иванович, перепишем поручную запись. Скажем, что ты взял шестьсот рублей не в казённый долг, а за рыбные ловли близ Ундоров.
Воевода часто задышал и начал мерить крыльцо шагами, от одного конца к другому.
– Эти ловли сейчас даны Ушакову, – внезапно остановившись, промолвил он. – Как с ним?
– Через месяц у него его срок заканчивается, – сказал Твёрдышев. – Дай поручную запись, что взял деньги за ловли, начиная со следующего месяца, те же шестьсот рублей. Вот и не станет у казны долга. А тебе, Иван Иванович, от меня будет двести рублей поминка на счастливую дорогу.
– Ушаков буянить начнёт, – задумчиво сказал Дашков, затем резко махнул рукой. – Добро, уговорил! Значит, двести рублей?
– Как одна копейка! – клятвенно произнес Твёрдышев. – Чтобы не тянуть, сейчас и сделаем поручную запись.
– Кто сделает? – спросил воевода. – Никитку Есипова не надо, он болтун и дурак. Может, твой монах грамотку спроворит? Но не тут. Ступай в свою избу, а я после к тебе загляну.
Твёрдышев спустился с крыльца и, поманив за собой Савву, пошёл мимо соборной церкви, возле которой, дожидаясь начала службы, сидели на земле с десяток нищих. Невдалеке от них на скамеечке расположился площадной подьячий, поджидая челобитчика, крестьянина или посадского человека. Красноносый от непомерного пития хмельного грамотей, завидев Твёрдышева, встал и приветствовал купца низким поклоном.
– Бог в помощь, Герасим! – произнес Степан Ерофеевич. – Много ль полушек за сёдни сшиб?
– На квас не добыл, – скривился подьячий. – Со вчерашнего дня во рту маковой росинки не побывало. А про остальное уж молчу. Пожалуй, милостивец, пишущего раба твоего алтыном, я отслужу.
– Худая от тебя служба, Герасим, – сказал Твёрдышев. – Намедни писал мне грамотку и всю жиром заляпал. У меня теперь свой переписчик появился, московской выучки. И хмельное не лопает, как ты.
– Этот, что ли? – пренебрежительно вопросил подьячий, указывая грязным перстом на Савву. – Да он ни бельмеса не кумекает в приказных заковырках. А я тебе пригожусь. Выщелкни алтын, Степан Ерофеевич, за мной не пропадёт.
Не хотелось Твёрдышеву развязывать кошель, но пришлось, нужным человеком был подьячий, выручал не раз купца от подвохов соперников, ибо многое ему было ведомо по его службе. Получив алтын, Герасим опрометью бросился к крепостным воротам, за которыми на посаде стоял кабак.
– Беда с русским человеком, – вздохнул Твёрдышев. – Всем хорош, да пьёт до полусмерти.
– Всё правда, – согласился с ним Савва. – Он и до смерти работает.
Крепость была плотно застроена. Почти впритык к заволжской и свияжской пряслам стояли, почти вплотную друг к другу, большие избы для ратных людей. Стрельцов подле них не было видно, они работали вокруг внешней стороны крепостной городьбы: углубляли ров, крепили в нем дубовые колоды с вбитыми в них заостренными железными прутьями, эти ужасные для осаждающих воинские хитрости назывались чесноком.
В крепости было тринадцать кормовых изб и столько же поварен для кормления служилых людей. Вокруг них, готовя еду, суетилась поварня, было шумно и дымно, из огромных бочек с помоями смрадно воняло протухшей рыбой и прокисшим тестом. Твёрдышев и Савва испуганно отстранились: из-за угла избы на них нежданно вывернули, позванивая оковами, два тюремных сидельца под доглядом дюжего стрельца, вооружённого ржавой алебардой. Узники на толстой палке несли котёл с горячим хлёбовом для всей тюремной братии, которую кормили один раз в день, чаще на казенную полушку никак не выходило. Этих, что прошли мимо него, Савва сразу определил: беглые крестьянишки, и пойманы недавно, поскольку не успели ещё от подземного житья и худой пищи озеленеть лицами и зарасти шелудьями.
Через трехсаженную пыльную улицу от кормовых и поваренных изб стояли амбары, из которых поварня брала для приготовления пищи овсяную муку, из которой делалось толокно, солёную рыбу, говяжью и свиную солонину, горох, репу, капусту, лук и чеснок. Амбарные приказчики знали Твёрдышева и низко кланялись именитому купцу, когда он проходил мимо.
– Вот и моя изба, Савва, – сказал Степан Ерофеевич. – Сейчас ключница Потаповна ворчать начнёт на меня, что не пришёл обедать. Но ты не смущайся, она женка добрая.
Савва огляделся. Вдоль казанского прясла стояли осадные избы. Одна была громадной, в два этажа, и предназначалась для испомещения людей, которые сбегутся в крепость от набега степняков или воровских казаков. Обочь от неё стояли с десяток изб людей знатных и достаточных, которые в мирное время в них не жили, но содержали на всякий крайний случай. Поволжский край не был до конца замирен, и беда могла прийти в любой час. Знатные люди обычно жили на посаде или в своих поместьях. Твёрдышев ещё полностью не перебрался в Синбирск, зимой он жил в Нижнем Новгороде, где имел свой двор, летом – в Синбирске, близ подвластных ему кабаков и рыбных ловель в своей осадной избе, которую построил его отец, первым из купцов гостиной сотни обосновавшийся в этих привольных и прибыльных для тароватых людей местах.
Горница твёрдышевской избы стояла на каменной, углубленной в землю, подклети, где помещалась премного всякого товару и съестных припасов. Наверх, в горницу, вела широкая просторная лестница из дубовых ступеней, крыльцо было таким же просторным, как и в приказной избе, под шатровым навесом, изукрашенном затейливой деревянной резьбой, точеными перилами и столбами.
– Заходи, Савва, не чинись, – шутливо молвил Степан Ерофеевич, заметив, что тот робеет ступить грязным сапогом на выскобленную добела ступеньку крыльца.
– И правильно делает, что не прётся с грязными сапожищами в дом, – раздался сверху сварливый голос. – Очисти об скребок большую грязь, а малую обстучи об решётку!
– Неласково ты встречаешь моего московского гостя, Потаповна, – сказал Степан Ерофеевич. – Он на Москве не в такие палаты, как моя худая избенка, хаживал. Что расходилась? Или сама кругом виновата, не поспела с обедом?
– Как же не поспела! – чуть не вскричала Потаповна. – И за поломойками догляд держала, и обед готов давно, а тебя, батюшка Степан Ерофеевич, всё нет.
Савва ожидал увидеть согбенную, чуть ли не с клюкой старуху, а перед ним предстала дородная белолицая женщина в летнике из тонкой крашенины светлосинего цвета и чёрном, повязанном под подбородком платке, с пытливым и недоверчивым взглядом, которым она окинула с головы до ног нежданного гостя.
– Потаповна – моя вторая мамка, – сказал Степан Ерофеевич. – В детстве меня, озорника, прутом потчевала, а теперь допекает своими заботами. Весь мой синбирский дом на ней держится.
– Как же за тобой, батюшка, не доглядывать, – строго молвила ключница. – Ты порой к себе незнамо кого ведёшь. Иной вроде купец, а ухватки у него воровские. Вот недавно серебряная чарка пропала, не я же её унесла, а кто-то из тех низовых торговых людей, что ты привечал хлебом-солью.
– Савва не купец, – рассмеялся Твёрдышев. – И будь с ним поласковей. Он теперь у нас жить будет.
– Я не кошка, чтоб к нему ластиться, – нахмурилась Потаповна. – Не погляжу, что монах, если зачнёт бедокурить.
Ключница повернулась и ушла вглубь дома, и только Твёрдышев и Савва успели расположиться за столом на скамьях, как Потаповна внесла судок, достала из хлебницы хлеб, поставила на стол миски. Вскоре, подав и другие блюда, она ушла на свою половину.
Савва в многодневных странствиях исстрадался по горячей пище и себя не сдерживал за столом. Выхлебал две миски стерляжьей ухи, но не насытился и жадно приник к пирогам с визигой, которых умял несколько штук, запивая терпким хлебным с изюмом квасом.
За столом разговора не было, монах был занят едой, а Твёрдышев думал о чём-то своём, ведомом только ему. Когда Савва, сыто рыгнув, отвалился от стола, Степан Ерофеевич сказал:
– Меня дела ждут на пристани. Пойдём, покажу твою комнату для занятий и отдыха.
Помещение, где Твёрдышев хранил книги, было небольшим, но в нём имелось всё, потребное для неприхотливого труженика-грамотея. Вплотную к стене стоял стол, рядом с ним короткая скамья, вдоль другой стены находилась лавка, покрытая овечьей шкурой, на стене висели две полки с книгами, на железном сундуке, закрытом на круглый замок, была большая стопа писчей бумаги. В первую очередь Савва отправился к ней. Взял лист, ощупал и стал довольным.
– Настоящая аглицкая бумага, и по виду, и по хрусту.
Затем обратился к книгам, просмотрел кое-какие и вздохнул.
– Прежние переписчики, пожалуй, лучше работали.
– Это ж почему? – спросил Степан Ерофеевич.
– Раньше каждую буквицу выписывали, не торопились, а сейчас скорописью всё делают. Про печатные книги и сказать нечего доброго. А тебе, Степан Ерофеевич, что нужно переписать?
Твёрдышев думал недолго.
– Сделай для меня «Казанскую историю». Государь Иван Васильевич для Руси Волгу открыл до Каспия. Долго Казань поперёк стояла, да рухнула с Божьей помощью. Она ведь, татары бают, древней Москвы?
– Враки, что древней, – Савва достал из своей сумы книгу. – Вот здесь написано, что Казань основал булгарский царь Саин в 6680 году от сотворения мира, или в 1172 году от Рождества Христова. А что до татар, то они горазды на выдумки, как малые дети. И среди них есть такие, что врут вполне по-русски.
– Занятно, – задумчиво промолвил Твёрдышев. – В таком разе делай эту книгу непременно, а то в Нижнем на ярмарке казанские торговые люди нет-нет да и спор затеют, что-де Казань выше Москвы.
Степан Ерофеевич ушёл, а Савва сел на скамейку, снял сапоги, отодрал прикипевшие к ступням портянки и почуял, как вокруг него резко завоняло псиной. Резко зазудилась спина, он, привалившись к краю стола, почесал её и услышал за дверью шаги. Савва схватил сапог и стал толкать в него босую ногу.
В комнату вошла Потаповна, нюхнув потного духа, поморщилась и положила на лавку исподнее бельё.
– Ступай в мыльню, ты ведь поди завшивел, как бродяга, – строго сказала она. – Нынче очередь казаков мыться, смотри, чтоб они тебя там не замяли.
Савва покраснел от смущения, пролепетал слова благодарности и уставился взглядом в пол.
3
Свияга – река тихая, покорная, однажды пошумит в половодье, унося на себе грязно-серые льдины, разольётся по низким травяным берегам, но скоро утишится, войдёт в коренное русло и задремлет, всем своим видом навевая на человека тихую, посасывающую душу печаль и неясные, словно отражения облаков на воде, раздумья.
– Дядька Севастьян, – сказал Ермолай старому мукосею, – вот тебе парень, определи его на место.
– Ты на мельнице бывал? – спросил Севастьян, нисколько не удивившись появлению незнакомца.
– Не приходилось. А вот кузнечное дело понимаю.
– Тогда тебе, парень, есть дело по твоему умению. Ступай за мной.
Максим оглянулся, молодого Андреева уже рядом не было, и он пошёл за Севастьяном, который подвёл его к амбару и указал на каменный круг.
– Видишь, как насечка сделана на жернове.
Максим присмотрелся, дело вроде нехитрое, ближе к осевому отверстию насечка была грубее, по краю мельче.
– Надо зубило и молоток, – сказал Максим. – Сделаю.
Севастьян потрепал его по плечу:
– Не горячись, парень! Насекать жернова тоже уметь надо. Вот возьми половинку от лопнувшего жернова и поработай. Поглядим, что получится.
Почти до темноты Максим возился с камнем, пока его не позвали к столу. Кроме Севастьяна к ужину пришёл ещё один парень, подручный мукосея. Они торопились на рыбалку, скоро поели жидкой толоконницы и ушли. Максим остался один. Мельница не работала, внизу под настилом чмокала о своем вода, из открытой двери был хорошо виден мельничный плёс, окрашенный в розовое и золотое лучами заходящего солнца. Над ним, визгливо вскрикивая, низко небольшими стаями чертили воздух стрижи, а на краю неба, соседствуя с закатным заревом, быстро росло в размерах серо-синее облако.
Максим вышел из амбарушки и приблизился к плотине. Она была уже достаточно стара: выступавшие из воды дубовые сваи, вбитые другими концами в дно Свияги, от сырости зазеленели и осклизли, мшисто зелена была и деревянная труба, по которой шёл поток воды, вращавший мельничное колесо, сейчас отведённый затворами в другое место и шумно изливавшийся по деревянному жёлобу за плотиной.