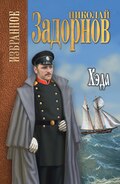Николай Задорнов
Могусюмка и Гурьяныч
– Только денег-то тут больше, чем надо…
– Видно, разбогател разбойник. Ты, Андреич, выброси кошелек-то. Не дай бог хозяин найдется… Знаешь, ведь их дело такое…
– Как это ты, Иван, башкир боишься? Разве у тебя у самого нет друзей-башкир?
– Пошто боюсь! Есть у меня друзья, ну так то шигаевские, соседи… Изятка, Вахрейка, Кунабайка!
– А ты думаешь, шигаевские с Могусюмкой не ходят? Хибеткин-то отец и ваши-то шигаевские – родня. А Хибетка, видать, Могусюмкин джигит.
Иван приумолк. Он кое-что знал, но помалкивал. Он на кордоне более беспокоился за купца, чем за себя.
«Значит, видели нас, как мы проезжали, – подумал про себя Захар, – но не тронули. Тогда и обоза не тронут». И проговорил вслух:
– А все-таки Санка мужик со смекалкой…
– Как же, при торговом деле, – отозвался Иван.
Захар знал, что среди бедноты башкирской считается Могусюмка не разбойником, а удалым защитником народа. Много разных рассказов ходило про него.
«Гордый он! Свой характер выказывает: мол, не понимай обо мне плохо!»
«Может, понял, что струсили мы, что боюсь я за свой обоз, и вот пожелал показать, что совсем не разбойничает, что не надо бояться».
– Вот бы дружбу завести с таким человеком, – сказал Захар.
– Что ты! – отозвался Иван.
– А чем же плохо?
– Твое дело: я бы не рискнул. – И добавил как бы в оправдание: – А у нас соседи славные, так почему бы не дружить.
– А я слыхал, вы у них землю отымаете?
– Не затрагиваем, напраслина! Дашь ему чая, он на лето поляну продаст, сено скосим. Только Акинфий – они жалуются – обижает. Межу будто показывает не там… – осклабясь, сказал старик потихоньку и виновато, словно боясь, что даже здесь, в лесу, Акинфий услышит. – У него зять – ярославец. Был коробейник, грамотный, а теперь вот второй год женился и поселился в нашей деревне. Они с тестюшкой доносы на башкир пишут и возят в город, доказывают, что башкиры землей неверно володают.
Глава 3. Помочь
В полуверсте от поселка тройка нагнала седого деда с топором за лыковой опояской. Когда тарантас поравнялся с ним, старик снял шапку, поклонился Захару.
– Откуда, дедушка?
– Под Малиновые кручи ходил, нынче у «верхового», у Оголихина, помочь.
Оголихин был старшим из мастеров, «верховым», как его называли, и, по сути дела, управлял всем заводом.
– Рубили бревна для заплота…[21] – продолжал дед. – Новую избу ему ставим… А ты из города, что ль?
– Из города, – ответил Булавин. – Чего в заводе, все ли благополучно?
– Слава богу, все спокойно.
– Залезай в тарантас, подвезу.
Иван обернулся, поглядел на старика.
– Придержи коней, – велел купец.
Дед, путаясь в долгополом армяке, полез в короб.
– Чего это он тебя с помочи рано отпустил?
Старик уселся поудобнее, вытянул босые ноги, потом обернулся к Захару и деловито возразил:
– Другие еще и завтра домой не уйдут. А я топорик со вчерашнего дня поточил, да и работал с самой зари. К полудню еще разок поточил да опять работал. Глядишь, и урок справил.
– Ветки, что ль, срубал?
– Пошто ветки? – обиделся старик. – Самые боровицы валил васейка[22]. Максим Карпыч мужикам сказал: мол, гляди, как водяной лесины сшибат.
Дед Илья уж много лет как был переведен от кричных молотов[23] на легкую работу – подавать воду для работы колес, за что его и прозвали «водяным».
– Смотри, тебя Оголихин-то обратно к молотам поставит. Старик, мол, еще крепкий, ранее молодых уроки в лесу справляет. А нынче, говорят, на кричных того мастерства уж нет.
– Э-э, зря говорят! – Старик снял шапку, утер потную лысину. – Нынче на заводе такой мастер работает, что еще никогда такого и не было. Он когда кует полоской-то, как игрушкой играет – одно загляденье! У него и железо-то получается не то, что у нас.
– Ты о Гурьяныче, что ль?
– О нем о самом.
– Ну, вот только что он! А другие-то так себе…
Берегом глубокой размывины тарантас подъезжал к поселку. За оврагом на возвышенности тесно лепились друг к другу бревенчатые избушки с прирубными сенями и бревенчатыми заборами.
Окошечки в избенках маленькие, квадратные, с широким одностворчатым ставнем.
– Гляди, какие хоромы Максим Карпыч воздвигает!
Захар стал смотреть в сторону, куда показал дед.
– Вон какой вылез!
Из-за изб подымалась крыша нового дома. По ней лазали мужик и мальчонка. Они набивали на балки железные листы.
– Быстро отстроил, – я на ярмарку уезжал, только еще сруб начал ставить.
– Всем заводом работаем. Максим Карпыч все торопит. Каждый день помочь да помочь… В очередь артельно ходим. Видишь, и до меня, старика, добрался.
– Угощает за помочь или задаром? – вмешался в разговор ямщик.
– Когда как. Ежели заплотник вовремя на место доставят, сказывал, будет угощать. – Старик горько ухмыльнулся. – А когда не угощает. Знаешь кулачище-то у него! – И с сожалением добавил: – Этак ему дом-то задаром поставили. Выбивает из народа этот дом. Колотит мужиков. На побоях растут хоромы-то.
– Вроде барщины! – возмутился Иван. – Какая же это помочь?! У нас на селе помочь – дело соседское, полюбовное. Избу ли строить, пашню ли убирать, враз соберем мир. Кто сам не выйдет, батраков пошлет. А это какая помочь? – махнул рукой Иван.
– Кабала! – сокрушался «водяной». – Да мне што! Я старик – все стерплю. Пусть-ка другие стерпят. Я не такое видал!.. У нас в заводе говорят: «Вот тебе и воля! Заместо барина на своего мужика батрачь». Барин-то на этакие проделки не пускался. И все грозит: мол, я вас кормлю, платы с вас за пользование заводской землей не беру и земли ваши, мол, не обмериваю. Век мне будете благодарны.
– Видишь ты!..
– Как же! Он, верно, с землей уж не теснит народ.
– В Низовке и то, слыхать, про него сказывали: живет богато, полтораста сарафанов за старшей девкой приданого дает.
– Верно слово, – подтвердил дед. – А какие сарафаны!.. Бабы-то уж видали, про это все говорят. Управляющий-то у него в кулаке. Он всем верховодит.
Тарантас задребезжал по деревянному мостику через овражек. Въехали в поселок. Гуси, гогоча и хлопая крыльями, разбегались в стороны. Заводские собаки кидались с лаем под колеса: учуяли низовских коней.
«Все меняется», – думал Захар.
Он слыхал, что скоро на завод привезут машины. Когда-то здесь работала паровая машина, но недолго. Механик не мог ее исправить и уехал. Второй год шли слухи, что везут новые машины. Но поговаривали и о том, что хозяин, живший в Петербурге, хочет продать завод.
– Сказывают, на Авзянском заводе кричные уже сломали, – заметил дед, как бы догадываясь о мыслях Захара.
– Ну что ж, что сломали, – отвечал Захар. – Люди к паровому молоту пойдут.
– Ну, спасибо, Захар Андреич, – сказал «водяной». – Прикажи остановиться.
Тройка встала. Дед вылез, поблагодарил Булавина. Ямщик тронул коней.
– Раб Христов, – показал он кнутом вслед деду, ковылявшему в переулок. – Видишь, он какой? Мне, говорит, все равно! Я, мол, все стерплю! Пусть-ка другие стерпят! На других надеется, что их скорей проймет, чем его. Вот так каждый и терпит. Народ-то и дуреет от таких терпелок. А кому надо, с этого руки греют…
– Ты подкати-ка веселей, – перебил его Булавин.
В этот миг, когда он подъезжал к своему дому, про разбой и безобразия Оголихина думать молодому купцу как-то не хотелось. Наоборот, думалось Захару, что все идет хорошо, все правильно, к пользе народа. Он полагал, что и своей торговлей делает он благодеяние для крестьян. Правда, разные слухи шли по заводу и про Захара. «Но кто не знает, – думал он, – что отец горбом все наживал. Нет, мои деньги не лихие!»
Иван поднялся с облучка, натянул левой рукой вожжи, правой настегал коней.
– Э-э-эй, пошли!..
Тройка понеслась вскачь. Старик правил стоя.
Выехал на Широкую. Улица эта действительно была широкая и прямая. Стали попадаться бабы в синих кубовых сарафанах[24]. На плечах у них коромысла с обручными деревянными ведрами.
По правую сторону на красном порядке высился пятистенный дом Захара.
Иван еще раз хлестнул кнутом по пристяжным, и тройка подлетела к шатровым воротам. Кучер осадил коней. Из калитки выбежала светловолосая молодица. Она кинулась к тарантасу.
– Захарушка, вот и прикатил! – восклицала она. – Вовремя!
– Здравствуй, Настасья. Иван, захвати вещи.
Пошли во двор. Настасья подбежала к плетню, кликнула в соседний двор:
– Феклушенька!
– Чего тебе, Настасьюшка? – отозвался молодой женский голос.
– Захар Андреич приехал. Беги живо, посмотри баньку да самовар готовь!
Феклуша была женой приказчика Санки. Поженились они несколько лет тому назад. Избу поставили рядом с новым домом Захара. Санка торговал у Булавина, Феклуша помогала Настасье по хозяйству.
– Лечу, лечу, живо, – отозвалась она.
Баня была далеко, за большим белым амбаром, сложенным из похожих на мрамор каменных плит.
В избе Захар перекрестился на образа, помолился об окончании пути.
Изба у Захара сложена из толстых лиственничных бревен, небеленая внутри. Настасья моет стены, как пол. Балки на потолке и брусья стен свежи, всюду светло-желтая, ровно выструганная, как полированная, лиственница.
Просторная горница и кухня обставлены дубовыми скамьями и столами, на стенах расшитые полотенца.
Вошел Иван. Принес сумку, чайник, охотничье ружье, чепан.
– Я уж не стану задерживаться, – сказал он.
– Садись, получай расчет…
Купец и ямщик уселись рядом на лавке. Захар отсчитал деньги, отдал крестьянину.
– Вот тебе за разгон, как уговаривались.
Иван нахмурил лоб и, видимо, с трудом подсчитывал деньги.
– Правильно, что ль?
– Верно, Захар Андреич, правильно будет.
Тогда Захар высыпал в ладонь медных денег, побренчал ими и отдал Ивану.
– Держи, ребятам на пряники. После будешь на заводе, заезжай в лавку, тебе материи отрежу. Рубах сошьешь к свадьбе, – пошутил Захар.
– Благодарствуем, – низко поклонился Иван. Бородатое лицо его при упоминании о свадьбе расплылось.
Старик спрятал деньги за пазуху и подтянул кушак.
– Спасибо, Андреич. В Низовке будешь, милости прошу. А совет-то мой не забывай. Лавку у нас открыть – прибыльное дело.
– После заеду, посмотрю.
– Ну а покуда прощенья просим. – И Иван вышел из избы.
В окно было видно, как он подбежал старческой трусцой к тарантасу, завалился на сено и, нахлестывая тройку, помчался вниз по Широкой.
Глава 4. Настасья
– Ну, рассказывай, чего тут у тебя? – спросил Захар.
Настасья присела рядом.
– Мы с Феклушей тревожились: на дороге-то, сказывают, шалят.
Захар улыбнулся счастливо, оттого что жена за него беспокоилась.
– Ты не бойся, – сказал он гордо. – Я ведь не один, да и с оружием. А я тебе гостинцев привез!
Булавин вытащил зеленую атласную коробочку. Щелкнул замком. Крышка отскочила, и внутри на черном бархате зазолотилась пара сережек, украшенных алыми камнями.
– Получай!
Настасья бережно взяла коробку и стала рассматривать подарок.
– Камешки-то красные, самоцветы, горят на свету. Играют… – И подумала: «Оголихинские бабы теперь изведутся с зависти».
Захар достал из сумки азиатский платок, затканный золотыми птицами и голубыми цветами.
– А сахару-то привез? – спросила Настя, не желая ни выказывать особого интереса, ни восторгаться подарками. – Я тут с бабами все по ягоды ходила.
– Мешки идут в обозе.
– У меня-то есть еще, а бабы досаждают со всех сторон. Новые-то богачки! Оголихина все сахару да сахару просит. Хочет варенья наварить на всю зиму, сладкое-то любит. Раздобрела, как корова.
– А вот в хребет-то ты напрасно ходила. Слыхала про людей недобрых, а поостеречься не догадалась.
– Да, слышь, у нас под заводом только Могусюмка ходит. А он заводских не трогает. А еще говорят – с Гурьяном побратались они.
– С Гурьяном? – спросил Захар, и глаза его блеснули.
Настасья заметила это и чуть-чуть покраснела.
– Мало ли что говорят, – сказал муж. – А вдруг позарятся на русских баб, как раз и украдут. Увезут в степь да продадут.
– Бойки у нас бабы-то, – лукаво улыбнулась Настасья, как бы не решаясь что-то рассказать мужу.
– И то не беда. Пусть их! Дома-то строгость!
– Как же! Дома все смирны. Грозен тятенька, а муж еще грозней! – держа в руке подарки, но не глядя на них и смеясь из-за плеча, сказала Настасья.
– Как же, – отозвался Захар, – так и надо.
– А Гурьян-то, – продолжала Настасья, – все под окнами у нас ходит… Глядит – того и смотри, что глазами бревна прожжет…
– На наш дом глядит? – встрепенулся Захар.
– А в лесу-то встретились с Гурьяном, – продолжала жена. – Так мы уж сторонкой, сторонкой, да поскорей и убрались.
– Так он и в лесу вас встретил? – ревниво спросил Захар. – Сильно он вас испугал?
– Ах, да что ты! Чем же он напугает? Он такой смирный, он никогда слова худого не скажет! Он смешной…
Захар стал рассказывать, как башкиры догнали его на дороге и отдали долг.
Вошла Фекла, жена приказчика Санки.
– Здравствуй, Захар Андреич! С приездом! Как мой-то там? Жив или его уже в лесу зашибли?
– Жив, здоров. Он с обозом отстал, скоро будет.
Феклуша – женщина молодая, но изможденная работой и постоянными родами.
После бани и обеда Захар сходил в лавку.
По случаю его возвращения собрались знакомые, мастера, торговцы, лабазники. Расспрашивали про ярмарку, про цены на шерсть и железо, про волнения в киргизской степи.
– Это все Хива мутит. Смущает этих мусульман, – говорил Терентий Запевкин, зажиточный заводской мастер, узколицый, лысый, с окладистой бородой, которой заросло все его лицо, только виден острый и кривой горбатый нос да узкие глаза.
– Есть знак и на Хиву, и на турок, – говорил Захар. – Мне сами же азиаты рассказывали, что из Турции святые выпущены, чтобы смущать мусульман против русских.
– Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит, – молвил густым басом Прокоп Собакин, тучный бородатый мужик с обрюзгшим, багровым лицом.
– Змея укусит, – подтвердил Запевкин.
– Ай, ай, худой человек! – заговорил татарин-торговец Рахим Галимов. – Худой человек…
– Зашел я в городе в азиатскую харчевню, – рассказывал Захар, – с товарищем, с киргизом. Смотрим, сидят татары, киргизы. Какой-то человек, похожий на хивинца, глаза, как у ястреба, что-то рассказывает. Я киргиза спросил: «Что он говорит?» А этот киргиз, старый мой знакомый, еще отцу коней продавал, он мне перевел, что, мол, говорит, как на стене кафтан висит, так, мол, все русские висеть будут.
– Ну а ты что? – с чувством спросил худой заводской мужик Кузьма Залавин, сидевший у порога на корточках.
– Ай, ай, худой человек! – восклицал Галимов. – Такой человек хватать надо, тюрьма сажать.
– Я подозвал хивинца к себе и спрашиваю: «Что, мол, ты сейчас говорил?» Он сразу струсил, согнулся. Мы с киргизом посмеялись и пошли прочь.
– У меня бы не ушел, – заметил Прокоп.
– Турция мутит, – сказал Запевкин.
– Только башкиры-то не подымутся против русских, – отозвался с порога Кузьма.
– Москвичи говорят, что война с турками будет, – подхватил Захар.
– Ну а что в степи? Что слыхать? Хан-то киргизский…
Пошли разговоры про пограничные новости. Захар рассказал, что будто бы собираются отправлять войска на Хиву.
– Это ведь уж двадцать лет все говорят: мол, на Хиву, на Хиву, – да никак не соберутся, – отозвался Собакин.
Потом разговорились про заводские непорядки: шел слух, что скоро будет новый хозяин, что льгота, данная на землю, кончается и больше ее не продлят.
Вечерело.
Мимо проехали ребятишки на конях, подняли пыль, и она стояла облаком в воздухе. Вдали синели низкие волны хребта.
Люди толковали о делах, ждали каких-то событий. Жилось скучно и однообразно, и ум хватался за всякую новость. С самого дня отмены крепостного права все чего-то ждали: кто лучшего, кто худшего. Богатые заводили оружие и замки покрепче и старались вот в такие вечера держаться дружней, хотя в иное время сами готовы были перегрызть друг другу глотки.
Вечером Захар пил чай со свежим вареньем. Слышались глухие удары кричных молотов на заводском дворе. Настя и Феклуша разбирали огромную кучу ягод, ссыпанных из опустевших, докрасна измазанных соком корзин.
А утром, когда Захар ушел, к Настасье собрались бабы.
Настя, коренастая, с широким белым веснушчатым лбом, с румянцем на тугих щеках, со светло-русой, по-девичьи тяжелой косой чуть не до полу, вертелась у зеркала, прикладывая то к груди, то к плечам, то к коленям цветастые материи, привезенные Захаром. Без мужа держалась она куда смелей, смеялась и шутила.
Накинув на плечи кусок шелка, пробежалась по избе мелкими шажками, шлепая босыми ногами по полу, поджимая губы, закатывая глаза и фыркая то направо, то налево.
– Ах, оставьте меня, пожалуйста! Я не заводска, не деревенска, а слободска, городска, оренбургска! Ах, не щиплите меня, не троньте, не щекотите! – взвизгивала она, а бабы покатывались со смеху.
Все они с удовольствием смотрели, как ловко Настя изображает городскую щеголиху.
Глава 5. Гурьян
Над рекой, над обрывом старый барский дом с фронтоном и колоннадой, оградка, сад. Ржаво-желтые кремнистые утесы падают от его изгороди прямо к воде. А дальше по берегу сосновая роща, потом березник. Река как бы опоясывает тут всю гору с Верхним поселком, барским домом и с березовыми и сосновыми рощами. Внизу плотина и рядом с ней мост, по которому рабочие ходят на завод. А на той стороне видны доменные печи, сараи, склады, груды руды.
Слышится пение рабочих, тянут «Дубинушку». У моста забивают сваи.
Кипят водопады у плотины на сливном мосту, а дальше река несется вся в пене, бушуя и волнуясь, как на камнях.
Правей огромный синий пруд, а за ним Нижний поселок – целое море сухого почерневшего дерева, дощатых и бревенчатых крыш и заплотов.
А за поселком темно-зеленые горы в густых сосняках, а дальше – горы синие, а еще дальше – голубые.
Настя знает, что река Белая вытекает из тех хребтов, что там дремучие леса и в них курени. Там жгут уголь. В горных долинах – луга. Скоро на покос ехать. Захар и Настя сами косят. Фекла и Санка поедут с ними. Там углежоги томят в кучах уголь для заводских печей, и когда едешь на покос, то навстречу попадаются длинные обозы. Черномазые рабочие везут уголь на завод в коробах или прямо на широких телегах. На заводе все нравится Настасье.
Росла она у отца на степной заимке, носилась по ковыльному полю на диких конях, пахала, жала, ходила за скотом. Никогда не видала она завода, а на синие горы за степью смотрела, бывало, только издали. Чуть виднелись они слабыми полосками, как восходящая туча.
Настя с детства слышала от отца про железные заводы. Бывало, с уважением толковал он про людей, умевших отковать и плуг, и нож, и оружие.
На заводе жила ее тетка. Однажды летом собралась к ней Настя погостить – и зажилась. Отец не неволил любимую дочь. «Коль нравится, пусть погостит у тебя», – передавал он сестре с попутчиками.
Настя живо познакомилась на заводе с девушками. В березовой роще у ограды господского почти пустого дома собирались они летними вечерами, пели старые песни. Новые, мещанские, городские еще не дошли до глухого завода.
Бывало, стоит Настя над обрывом и подолгу смотрит на зубчатые горы, на широкий пруд, слушает звон и лязг, несущиеся с той стороны реки из-под широких черных заводских навесов на столбах.
«А у нас в эту пору все солнцем пожжет, степь пожелтеет», – вспоминает она, и сердце нет-нет да и затоскует по скудной, но милой и родной сторонке. А с завода уехать не хочется.
Запоют девушки плясовую, и выступит Настя, выйдет в круг, разведет концы платка, и уж все взоры на ней.
Заводским парням понравилась Настасья. Они приносили ей гостинцы, звали погулять. Настасья гостинцев не брала, от подруг не отходила. Парни играли ей на балалайках, выбирали в хороводах.
– Ты еще на заводе поживешь – тебе от наших парней отбою не будет, – насмешливо говорили ей подружки.
– У нас женихов отбиваешь, лучше поезжай к себе в степь, – полушутя говорила маленькая, пухленькая Олюшка Залавина.
– А что это звенит? – вдруг насторожившись, спрашивала Настя.
– Это кричный молот бьет. Да разве ты не знаешь?
– Да тот раз будто не так бил.
– Тогда мастер не тот работал. Каждый по-своему! Это Гурьян Гурьяныч робит.
– Посмотреть бы!..
– Эка невидаль!
– В заводе дым, копоть, окалина.
– Я в степи жила, кроме киргизов и верблюдов, ничего не видела.
– Хочешь, так ступай на завод робить. У нас есть девки-коногоны.
– В заводе не робила, так любо тебе. А ты бы по-нашему с тачкой… Мы гоняли!
– Слава богу, что вырвались!
– При крепостном бы век скоротали в этом заводе.
В пруду поднимали воду. Плотину закрыли. От сливного моста Белая текла слабым ручьем. Из-под воды выступили камни.
Под вечер, в праздник, под скалами, у самой дороги, рассевшись на траве и на камнях, парни играли на бандурках и горланили песню.
– Ах, как тонко Мишутка выводит! – восхищалась Оленька. – Он у нас в церкви поет.
– Пойдемте к нам, девушки, – звали парни. У них наверху составился свой хор.
– А Мишка нравится тебе? – спрашивала Оля у Настасьи.
– Нет!
– И все ей не нравятся!
Подруги пошли вниз к мосту.
– Так не люб тебе Мишка? – допытывалась Олюшка.
– Нет, не люб, – отвечала Настя. – А вот это кто идет?
– Это с кричных…
– Твой жених идет! – с насмешкой крикнула Ольга, и девушки бросились врассыпную.
– Берегись его! Это Гурьян Гурьяныч, сейчас забалует… – закричали они Насте.
С моста в гору брел черный от копоти темно-русый лохматый мужик богатырского вида, в рваной, прожженной одежде.
Настя не побежала. Она искоса улыбнулась, глядя на заводского мастера. Тот раскрыл глаза широко, сверля ее взором, а она, закрывшись краешком платочка, вдруг прыснула со смеху. Лохматый молодой богатырь, пройдя несколько шагов, остановился и оглянулся назад.
– Настя, беги! – кричали рассыпавшиеся по скалам девушки.
Но Настя не уходила. Чуть не целую минуту стояли они, безмолвно глядя друг на друга. Настя – стройная, с лицом бело-розовым, тугим, что называется, кровь с молоком, с кораллами на белой шее, с делано наивным, озорным взглядом голубых нежных глаз. И Гурьяныч – лохматая и темная громадина, словно куском черного железа выкатившийся от всех этих гремящих за рекой печей, из-под навесов.
Настасья прошла мимо, не глядя на Гурьяныча. И тот, как бы удивившись чему-то, покачал головой и пошел своей дорогой.
– Так что же его бояться? – все с той же наивностью спросила подружек Настя. – Он совсем не страшный.
– Вот так «не страшный»! Это тебе обошлось! Погоди, он забалует в другой раз, сажей измажет. Ты не гляди, что у него борода, он еще молоденький, только лохматый, как медведь, из него волос лезет, как из зверя.
– Видишь, его прозвали Гурьяныч, как мужика, хоть ему еще и с парнями можно на улице водиться.
Девушки рассказали, что Гурьян в самом деле молод, ему еще нет и тридцати, и что жил он со старухой, дальней родственницей, да та померла.
– У них вся семья перемерла. Сам он из староверов, но с башкирами якшит – дружит, по-нашему. Свою старую веру позабыл, только за бороду еще держится.
Настя уже слыхала, что староверы с башкирами сходятся; для них что никониане, что мусульмане – один черт.
– Ох, он и здоровый! На ярмарке медведя поборол.
– На пруд купаться ходит. Люди видели, сказывают, как медведь, смотреть страшно, – рассказывала Олюшка.
– Ах, стыд какой! – завизжали девки.
– Этот Гурьяныч, по прозванию Сиволобов, – первый мастер на заводе и всех старых превысил.
– Он не вдовый? – спросила Настя.
– Нет, холостой… А тебе что?
– Да просто так, – не смущаясь, ответила Настя.
– Нет уж, видно, тебе понравился.
Тут Настя покраснела.
– Как, не боишься?
– Да он, видать, смирный.
– А погляди, как он на башкирских праздниках бушует. Начнет на сабантуе бороться, кидает людей о землю.
– Ты не видала, как башкиры на празднике с завязанными глазами палками бьют горшки? Это у них разные игры такие. Башкиры орут, обвяжут ему лицо – смотреть страшно: все боятся, что он подглядывает. Все равно Гурьян как дубиной размахнется – черепки летят.
– Что же тут худого?
– А ты что заступаешься?
– Да просто так.
– Вот смотри, скажем ему…
– На гулянку придет – половицы ходуном ходят. У Залавиных на свадьбе топнул – доски в подполье продавил.
На другой день Гурьяныч, умытый, в новой рубахе, пришел, сел на камень на лужайке и стал смотреть на девушек.
– Ты только не балуй, – говорили ему.
Он смешно почесал бороду.
– Жениться будешь? – подсела к нему Олюшка. – Возьми меня. Нравлюсь?
– Все хороши…
– Эх, Гурьян, что я знаю… Хочешь, тебе скажу? Только смотри молчи, не подавай виду. – Олюшка прыснула.
Лицо Гурьяна обмякло.
– Ну, скажи, скажи, чего давишься?
– Куликовых племянница в тебя влюбилась… Настька! Ей-богу!
Олюшка лукаво взглянула на мастера.
– А тебе нравится она?
Гурьяныч нахмурился и вдруг, подняв лицо и почесав нос кулаком, подмигнул.
– Еще не знаю! Надо приглядеться.
Однако заметно было, что он сильно смущен.
Девушки обступили его.
Ольга вдруг схватила Настю и подтолкнула ее вперед.
– Ну вот, посиди с ним.
Девушки быстро переглянулись и вдруг со смехом разбежались во все стороны. Даже обычно смирная Катюша Запевкина, сидевшая напротив Гурьяныча на другом камне, сорвалась с места и умчалась на скалы, как горная коза.
– Посидите вдвоем! – радостно крикнула она сверху.
Настя, нимало не стыдясь, что осталась вдвоем с Гурьяном, присела с ним рядом.
– Скоро уж плотину откроют, вода пойдет, – сказал Гурьян.
Разговор с плотины перешел на завод, потом на доменную печь. Стал Гурьян рассказывать. Откуда только взялись слова!.. А Насте любо слушать. В разгар беседы вернулись подружки, и у Гурьяна вдруг язык отнялся.
– Ну, я пошел! До свиданьице! – поклонился он, снявши картуз.
Девушки диву дались.
– Он уж из-за тебя и кланяться научился, – изумленно сказала Олюшка.
На Ивана Купалу стояла жара. Девушки бегали друг за другом с ведрами, обливаясь.
Настя заметила, что из-под обрыва в конце улицы появился Гурьян. Он опять брел с завода.
– Погодите-ка, подружки, – сказала она и побежала к колодцу. Набрала ведро воды и притаилась за воротами.
Девушки играли у забора как ни в чем не бывало. Настя смотрела в щелку. Когда в просвете мелькнула русая борода, она толкнула калитку, в два прыжка догнала Гурьяна.
– Что, Гурьян Гурьяныч, жарко? – воскликнула она и обкатила его с головы до ног.
Мокрый Гурьян погнался за ней. Настя весело пустилась наутек. Оглянувшись, увидела она, что мужик догоняет. Настя кинулась в переулок.
Тут место глухое. Слева шел высокий забор, справа – огороды, вдали чернела чья-то баня.
– Не смей трогать, – с оттенком каприза сказала девушка, останавливаясь. – Смотри!.. – добавила она строго и серьезно.
Гурьян вдруг обхватил ее своими тяжелыми руками, прижал к себе и крепко поцеловал в губы.
– Да ты с ума сошел! Ах ты!..
Стыд вдруг охватил девушку. Она ударила его кулаком в грудь и вырвалась. Перескочила поскотину и, забравшись в зелень овощей, остановилась.
– Гляди, как окатила меня, – сказал Гурьян.
Грязная вода капала с его рубахи на жерди изгороди.
– Пропусти, а то поссоримся, – сказала она. – Отойди подальше, а я пойду домой.
Мастер обтер лицо сухим подолом рубахи.
– Смотри, в другой раз утащу и выкупаю в пруду! – сказал он, но отошел покорно в сторону.
Она вылезла из огорода и побежала обратно. У перекрестка остановилась. Он был далеко. Ей стало обидно, что он ушел, не попрощавшись и даже не взглянув на нее.
– Гурьян! – махнула она платком, а когда он оглянулся, скрылась за углом.
Вскоре все заметили перемену в Гурьяне. Он остриг бороду покороче, купил новые сапоги.
– Тебя степная Настя заворожила. Мы знаем: ты для нее стараешься, – говорили ему девушки, когда он приходил посмотреть их хороводы.
– Верно говорят – слово не стрела, а хуже стрелы, – смущали его девицы.
С Настей он помирился. Иногда они разговаривали.
– Ну, расскажи мне еще что-нибудь про завод… – говорила она, садясь на траву. – Ты, сказывают, тайное слово на железо знаешь?
– Это врут. Не слушай. Никакого тайного слова не знаю. Его и нет. Вот я тебе кедровых орехов в тайге набил. На-ка!
– Ты что, лохматый, шепчешь ей тут? – подходя, спрашивали Настины подружки.
– Ну, наговорились?
– Еще ни о чем не говорили, – отвечал Гурьян.
Он звал Настю вниз, под обрыв.
Однажды Гурьян нарвал цветов и принес Насте.
– Кому это? – спросила она, как бы удивившись.
– Тебе. Помни, как на Белой прохаживались. В степь-то вернешься…
Настя понимала, что жизнь Гурьяна мрачна, полна тяжелого труда и что лишь изредка бывали у него радости. Что никакой он не безобразник, а просто ему скучно, вот и балует он, как малое дитя. И ей приятно было видеть, как этот большой и сильный человек, буйный, видно, по натуре, становится кротким.
В воскресенье Гурьян удивил весь завод, явившись на пруд в новых сапогах. Эти были не самодельные, а городские, какие-то особенные.
– Гляди, дивные эти сапоги, – толковали парни. – Разные! Диво! Правый от левого отличается. Как ноги! Есть правый, а есть левый. Не похожи друг на друга, как у господ!
– Вот, видать, его проняло! Какие сапоги себе достал!..
Гурьян заметил девушек, среди них была Настасья. Вдруг он ушел на плотину, которую в тот год поправляли. В праздник работы там не было, и чугунная баба для забивки свай стояла на мосту. Бабу эту во время работы с трудом поднимали четверо сильных мужиков. Гурьян подошел к ней, постоял, подумал и вдруг, взявшись за рожки, поднял на глазах у всего завода эту бабу и несколько раз до отскока ударил по не забитой до конца свае. И затем как ни в чем не бывало поставил ее на место.
Однако тут же все наблюдавшие эту картину заметили, что Гурьян озабоченно нагнулся.
Люди догадались, что хвастовство Гурьяну не обошлось даром, что у его новых городских господских сапог от необычайной тяжести бабы осели подборы.
– Куда ты? Эй, стой! – кричали ему, когда Гурьян быстро пошел с моста, направляясь в поселок.
Парни догнали его и схватили, но он развел руками, и все повалились.
– Некогда, ребята, надо скорей пойти каблуки подбить, прифорситься!
– Эй, каблуки испортил!
– Это он из-за тебя, перед тобой отличиться хотел, – нашептывала Олюшка своей подружке.
А на другой день Гурьян промчался по улице на диком коне, и уж все знали, что, значит, у него в гостях друзья-башкиры.
– Он, как степняк, на конях скачет, – говорили про мастера, – а свистнет, как Соловей-разбойник, хоть ставни прикрывай.
У дома, где жила Настасьина тетка, Гурьян на всем скаку поднял коня на дыбы, хлестнул нагайкой, еще раз хлестнул и стал гарцевать, потом пустил его в мах, вихрем перелетел через чью-то распряженную телегу, стоявшую посреди улицы.
Он загоготал, как леший, и конь в безумном страхе умчал его вдаль.
– Кто это? – выходя за ворота, спрашивали люди.
– С кричных! – толковал какой-то старик.
– Ишь, вспылил улицу…
– Шайтан! Чисто шайтан!..
Гурьян снова примчался.
– Что ты, нечистый дух, делаешь? – подымаясь из-за забора, окликнула его Олюшка.