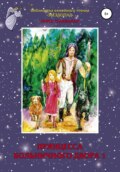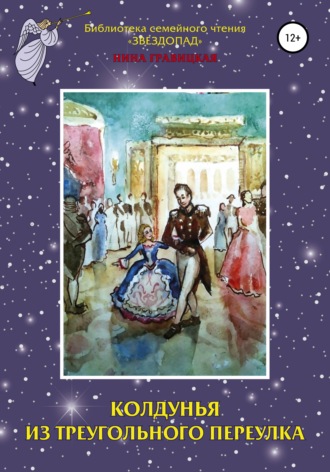
Нина Гравицкая
Колдунья из Треугольного переулка

– Няня, Аркадий Константинович, – серьезно возражала Анна, – это очень ответственное лицо в семье, тут торопиться нельзя, особенно с таким чувствительным ребенком, как Лизонька. На самом деле, Анна сама замечала, что Лиза отстает в развитии и втайне очень переживала по этому поводу. Девочка по-прежнему не ходила и не произносила самых простых слов: «дай», «на»; могла подолгу, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, методично колотить погремушкой по столу и в этой монотонности ее поведения было нечто пугающее.
– Ничего, – ободряла себя женщина, – любовь и терпение делают чудеса, поправится наша Лизонька.
Представили Лизоньку и Картамышевым. Те поначалу приняли девочку сдержанно, полагая, что Анна взяла на себя заботу о сироте временно, пока ту не определят в надежные руки, но видя, с какой нежностью смотрит Анна на девочку, как заботливо следит за каждым ее шагом, они поняли, что этот ребенок в жизни их свояченицы навсегда, и стали относиться к Лизоньке по-родственному: с теплотой и терпением.
Однажды у Картамышевых Анну представили Людвигу Зоргенталю, и тот долго и с чувством благодарил ее за сына.
– Я теперь понимаю, почему Володя просто боготворит вас, – признался он. – Вы ведь очень похожи на его мать, и это просто удивительно. Я хочу, чтобы вы знали, что я со своей стороны готов сделать для вас все, что потребуется, вы только скажите.
– А я и скажу, – лукаво взглянула на него молодая женщина.
– Я слышала от своей соседки госпожи Вагнер, что скоро состоится церемония открытия и освещения новой церкви[18] на Немецкой площади. Говорят, там можно будет послушать орган, а это моя давняя мечта, – доверительно поделилась она.

– Только и всего? – рассмеялся музыкант. – Так в чем же дело, приходите, – радушно пригласил он ее.
– Значит, вы сможете составить мне протекцию? – обрадовалась Анна.
– Про-текцию? – возмущенно протянул Людвиг Зоргенталь. – Да вы будете личным гостем самого маэстро! Кто посмеет не пропустить вас! – с негодованием воскликнул он.
– Не хотите ли вы сказать, уважаемый сударь, что именно вы будете играть на органе? – с удивлением взглянула на него Анна.
– Именно это я и хочу вам сказать, уважаемая Анна Йосифовна, – с достоинством ответил ей музыкант. – Играть буду я, и это будет Бах, композитор, стоящий над временем!
– А что именно вы будете исполнять? – с интересом взглянула на него Анна.
– Музыку Небесных Сфер, – торжественно провозгласил Людвиг Зоргенталь,
– Токатта и фуга ре минор!*– и серьезно добавил:
– Под эту музыку человек способен возвыситься до состояния Бога.
– О! – восхищенно воскликнула Анна, – я буду вам очень признательна, господин Зоргенталь, ведь моя давняя мечта наконец-то исполнится!

– Людвиг, для вас просто Людвиг, – поправил ее музыкант.
– Тогда и я – просто Анна, – дружески улыбнулась ему молодая женщина и с уважением добавила:
– Я не знала, что среди ваших талантов есть еще и этот, ведь игра на органе – удел немногих.
– Я играю и на органе, и на всех сопутствующих ему инструментах, – с гордостью ответил Людвиг Зоргенталь.
– А какие инструменты вы имеете в виду? – с интересом взглянула на него женщина.
– Все клавишные инструменты, сударыня, – склонился перед ней в поклоне Людвиг Зоргенталь, – абсолютно все.
– Неужели? – по-детски восторженно хлопнула в ладоши Анна. – И на клавесине?
– Так точно, – рассмеялся музыкант, и на клавесине, и на клавикорде. – Но поскольку на дворе девятнадцатый, а не семнадцатый и даже не восемнадцатый век, то чаще всего – на фортепьяно[19].
– Но правомерно ли, – нерешительно взглянула на музыканта Анна, – исполнять музыку Баха на современном фортепьяно, если она написана для других инструментов? Ведь это нарушение авторской воли, кроме того, не искажается ли звуковой облик и содержание произведения?

– Вы правы, но только отчасти, любезная Анна, – заметил Людвиг Зоргенталь. – Большая часть клавирной музыки* XVII-XVIII веков действительно предполагает клавесинное исполнение, но согласитесь, – внимательно взглянул он на свою собеседницу, – что в фортепианном звучании музыка приобретает совсем иное качество, и совсем не случайно уже в конце XVIII века композиторы и музыканты стали остро ощущать потребность в новом клавишном инструменте. Бах же настолько гениален, что его музыка перерастает возможности всех существовавших в то время музыкальных инструментов, и я полагаю, что клавирные пьесы Баха, за исключением тех, где он указал конкретный инструмент, можно исполнить на любом клавире, в том числе и на фортепьяно, вы разве так не считаете?
– Что я могу считать или не считать, – развела руками Анна, – если сам великий маэстро утверждает это?
– Благодарю вас, – поклонился музыкант, – в таком случае позвольте мне также утверждать, что орган, – и он, с чувством сделав ударение на этом слове, в экстазе поднял вверх свои прекрасные глаза, – превосходит все инструменты вместе взятые!
– Возможно, – согласилась Анна, ведь я еще никогда не слышала, как звучит орган.
– Не «возможно», а так оно и есть, – с воодушевлением воскликнул музыкант. – Этот уникальный инструмент обладает уникальным многоголосием и колоссальными тембровыми возможностями, недаром великий Моцарт называл его королем музыкальных инструментов.
– А вообще-то, любезная Анна Йосифовна, – уважительно взглянул он на нее, – я не думал найти в такой очаровательной женщине еще и тонкого ценителя музыки.
– Вы мне льстите, маэстро, – улыбнулась Анна, – но мне приятно, я действительно очень люблю музыку и знакомство с таким выдающимся музыкантом для меня большая честь.
Анна и Людвиг Зоргенталь расстались весьма довольные новым знакомством и, произведя друг на друга самое приятное впечатление, условились встретиться вновь на церемонии открытия новой лютеранской церкви.

Однако планам этим, ввиду неожиданно открывшихся новых обстоятельств, осуществиться не привелось.
Глава 7. Жизнь Анны круто меняется

Неожиданное письмо из Франции с официальным уведомлением о том, что Анна Гурович зачислена на медицинский факультет Сорбонны, прозвучало как гром с ясного неба. Первым эту новость сообщил Анне фельдшер Натанзон.
– Не поеду! – решительно отказалась молодая женщина. – Как это не поедешь, когда деньги уплачены? – едва не задохнулся от возмущения Яков.
– Что ж поделаешь, – поджала губы Анна, – придется извиниться перед отцом.
– Причем здесь отец? – уперев руки в боки, пошел в наступление фельдшер. – Отец здесь вовсе не причем, во-первых, это больница за тебя вписалась. А во-вторых, – многозначительно поднял он вверх свой палец, – я точно знаю, что все деньги и за твое обучение, и за проживание оплатил сам Аркадий Константинович из своего собственного кармана, все, до последней копеечки! От этого сообщения Анна вспыхнула и, залившись краской, чуть не плача, воскликнула:
– Как я могу ехать, если у меня ребенок на руках?!
– Ты девка, чего, совсем умом рехнулась? – зашипел на нее фельдшер. – Какой ребенок? Приблуда эта?
– Дядя Яков, если вы будете так говорить о Лизоньке, я к вам больше не подойду! – гневно заявила Анна и возмущенно добавила:
– Никогда! Так и знайте!
– У тебя совесть есть? – не обращая внимания на ее угрозы, грозно уставился на племянницу фельдшер, – Сколько людей на ноги подняли, пока все документы тебе справили, а ты от ворот поворот?! Анна упрямо молчала, поджав дрожащие губы.
– Хорошо, – сменил тактику Яков, – деньги, предположим, тебя не интересуют, ты ведь у нас теперь богачка, – иронично прищурился он, хотя прекрасно знал, что Анна не берет у отца деньги, – но вот скажи мне, голуба, как ты жить дальше собираешься? Опять тряпкой пойдешь махать, полы мыть?
– Это почему? – насупилась Анна.
– А потому, что доктор все писаные и неписаные законы нарушает, когда к больным тебя подпускает. Рискует человек и своей репутацией и своей карьерой! Ты ведь кто? Палатная няня! – не на шутку рассердился он. – Вот и ходи себе со шваброй, а в медицинские дела не суйся! А если папенька твой лабораторию, не дай бог построит, то кто мне там помогать будет? – грозно уставился он на нее. – Я тебе не доктор Капилло, и тебя, непутевую и необразованную, и на пушечный выстрел туда не допущу, так и знай! Пойдешь на содержание к Йосифу!

Этот последний довод возымел действие, и поиски няни, возобновившись с удвоенной силой, неожиданно увенчались успехом: по протекции Евдокии уже на следующий день на смотрины заявилась молодая девушка из многодетной семьи, за плечами которой был достаточно большой опыт по уходу за маленькими детьми. Звали девушку Любашей, и она сразу пришлась Анне по сердцу: скромная, улыбчивая, с открытым добрым лицом, а самое главное – она смогла быстро найти общий язык с уже повзрослевшей Лизонькой и как нельзя вовремя освободила Анну для подготовки к поездке. Отложенные ею в дорогу вещи Йосиф Гурович почти все забраковал, сказав, что все необходимое она сможет купить себе в Париже и после длительных препирательств, вручил дочери солидную сумму на расходы.
– Тебе нужно хорошо питаться, – категорично заявил он. – А кто должен о тебе позаботиться, как не отец?! На радостях, что Анна согласилась принять от него помощь, он завалил ее всевозможными советами и рекомендациями.
– На питании не экономь и взаперти не сиди, ходи на прогулки, дыши свежим воздухом, – напутствовал он дочь. – Непременно посети сад Тюильри, это статус, раньше туда простых людей не пускали, разве только один раз в году в день святого Людовика, а теперь доступ открыт для всех. Когда соберешься туда, оденься получше, чтоб тебя не приняли за служанку, таких туда не пускают, ведь в Тюильри публика исключительно из благородного сословия, – с уважением в голосе добавил он, – это тебе не Люксембургский сад, который предпочитают гризетки[20] и буржуа, Тюильри – это статус! – повторил он и многозначительно поднял вверх палец.
Времени на сборы было мало, а хлопот много, и к тому времени, когда наступил день отъезда, Анна от усталости и волнений уже совсем валилась с ног.
На вокзал ее пришли провожать отец, дядя Яков, доктор Капилло с Леней и супруги Картамышевы, которые попытались на перроне вручить свояченице значительные сбережения, полученные ими за многие годы от графа Ланжерона для семьи брата, но Анна твердо отказалась:
– Это деньги для Манечки, передадите ей, когда она вернется. Чтобы не травмировать Лизоньку, на вокзал ее решили не брать и, предчувствуя недоброе, девочка никак не хотела отпускать от себя Анну: она капризничала, плакала и у Анны перед глазами долго стояли ее встревоженные глазки.
В Париже Анна поселилась в пансионе мадам Фраболо на улице Huchette**, в Латинском квартале, что на левом берегу Сены, оттуда до Сорбонны, где проходили ее занятия, было рукой подать. Хозяйка пансиона оказалась славной женщиной, ко всем своим гостям относилась по-родственному сердечно и каждое утро подавала постояльцам кофе со свежеиспеченными вкусными булочками. Кроме того, она старалась содержать свое хозяйство в чистоте настолько, насколько это было возможно при общем плачевном состоянии общей санитарии и гигиены в Париже в начале XIX века.
«Я даже не предполагала, – ужасалась в своем письме Анна, – что Париж такой грязный город! Правило для парижского мусора одно – «tout-a-la-rue»[21]! Мне неудобно об этом писать, но ночные горшки и помои здесь выливают прямо из окон на улицу! Дождь превращает все отбросы в вонючую жидкую грязь, которая течет по улицам прямо в Сену. Тротуары здесь отсутствуют, и чтобы пройти через улицу не испачкавшись, подметальщики кладут на мостовую дощечки и переводят людей за особую плату. Настоящее варварство!»**
Письма из Франции жадно читались всем коллективом осиротевших мужчин в Одессе. Для этого Йосиф Гурович и Яков Натанзон каждый вечер являлись к доктору, где за чашкой чая в гостиной обсуждали новости последнего письма Анны. Под ногами ползала Лиза, рядом в кресле по воскресным дням сидел с книжкой Леня и старики чувствовали себя вполне счастливыми в домашней обстановке гостеприимного докторского дома.
На следующий день содержание письма со всеми подробностями обсуждалось всеми обитателями больничного двора.
– Я же никому ничего не говорил! – недоумевал фельдшер Натанзон. – Разве что только Евдокии…, – позже вспоминал он. Особенно бурную реакцию у слушателей вызвало опорожнение горшков в окно.
– Неужели такое возможно? – недоумевал Яков.
– Отчего нет? Даже очень возможно, – многозначительно поджимал губы Гурович. – Ты что, Яков, не читал, что писал по этому поводу Андрей Николаевич Карамзин, когда ехал из Страсбурга в Париж?
– Зачем мне это? – насупился фельдшер, который не любил, когда его уличали в недостаточной образованности. – Мне работать надо, а не сказки всякие читать.
– Какие же это сказки, брат, – возражал ему Йосиф, – если Анна слова Карамзина точь-в-точь повторяет.
– Ну, и что же он сказал, твой Карамзин? – ворчливо переспросил Яков. Гурович хитро улыбнулся:
– Ну что ж, слушайте: «Ближе, ближе, завоняло, ужасно завоняло, ура, мы приехали!».
– О-о! – округлив глаза, воскликнул фельдшер. – Не может быть, это что, действительно про Париж? Неужто так и написал? – недоверчиво посмотрел он на брата.
– Слово в слово, – подтвердил Йосиф Гурович. – Я хорошо запомнил.
– А вот я читал, – вмешался доктор, – как по этому поводу шутила модная нынче Дельфина де Жирарден**: «Граждане Парижа! Не выставляйте на всеобщее обозрение ожившее меню вашего вчерашнего обеда!» Мужчины дружно зашлись в смехе.
Анна не могла понять, как великолепие старинного города с его красивейшими архитектурными ансамблями, богатыми музеями, старинными скульптурами и вековой историей могли сочетаться с отсутствием элементарной гигиены. Всюду был запах брожения, гниения и разложения. Зловонные канавы были рассадником разнообразных инфекций, эпидемии тифа и других инфекционных заболеваний, которые в городе случались довольно часто***.
«Что я вам скажу, Аркадий Константинович, – обращалась она в письме к доктору, – медицинских проблем здесь значительно больше, чем у нас в Одессе. Дефицит воды и перенаселенность в жилых кварталах приводят к вспышкам холеры и туберкулеза. Больниц не хватает, большинство парижан живет в полной нищете, не имея возможности получить медицинскую помощь. Среди низших слоев населения сильно развит алкоголизм, много беспризорных детей. Картина, прямо скажу, удручающая».
В городе проблема с водой действительно стояла очень остро, в пределах Парижа вода была настолько загрязнена нечистотами и различными отходами, в частности кожевенных мастерских, что ее рисковал пить только сумасшедший, потому население пило вино, на худой конец пиво, бражку или воду, доставляемую водоносами[22] из родников, которая стоила дороже вина.
«Водоносы, – сообщала Анна в письме к родным, – это мое спасение. Когда я прихожу домой, меня уже ждет ведро воды, которое я заказываю накануне, и по сравнению с тем наслаждением, которое я получаю, умывшись после рабочего дня, это стоит не очень дорого. Хозяйка мои купания не одобряет, парижан вообще нельзя назвать чистоплотными, моются они крайне редко.
– Анна, – говорит мне моя мадам Фраболо, – зачем вы так часто моетесь? Вы так всю красоту свою смоете.
Когда я пытаюсь ей рассказать о наших традициях в поддержании своего тела в чистоте, или пытаюсь объяснить медицинскую пользу наших бань, то она начинает возмущаться и говорит, что «ваши бани – это какая-то черная месса, Страшный суд и адские муки, где попеременно пытают огнем и холодом, секут до крови березовыми вениками с листьями, так что едва кровь не выступает». Ну, как здесь не рассмеяться!»
– Да что говорить о простых людях, – вставил Яков, – если по слухам их король Людовик XIV мылся всего два раза в жизни, причём исключительно по совету врачей, и мытье привело его в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры. Что, не верите? – подозрительно взглянул он на собеседников.
– Отчего же, – поддержал его доктор Капилло, – помнится, я читал воспоминания русских послов при дворе Людовика XIV, так они писали, что их величество Король-Солнце…, – и он сделал паузу, многозначительно оглядев всех присутствующих, – «смердит аки дикий зверь»!
Гримаса отвращения отразилась на лице братьев.
– А европейцы еще смеют считать нас варварской страной, – проворчал Яков. – Да у нас в одной нашей Одессе бань больше, чем во всей их Франции вместе взятой**.
«Иногда перед занятиями я бегаю к Сене, – делилась Анна в своих письмах, – мне так недостает нашего моря. К Сене можно спуститься по разным улицам, но я всегда выбираю улицу со смешным названием «Chat qui Peche»***, по слухам, это самая маленькая улица в Париже.
Она такая же старая, как и улица Huchette, на которой я живу, но с ней связана легенда об одном алхимике и его черном коте-рыболове, который вдруг взял и ожил после гибели. Жители этой улицы клянутся, что ночью часто видят этого кота, идущего по улице с рыбой в зубах, которую он только что выловил в Сене. Вы будете смеяться, но мне было так любопытно, что я тоже однажды решилась пройти по этой улице ночью, однако кота, увы, или к счастью, я так и не увидела».
Чтобы развлечь родных, Анна подробно описывала им жизнь Парижа, где трудно было соскучиться. До поздней ночи в городе царила яркая и колоритная жизнь: на улицах выступали шуты и дрессировщики, акробаты и канатоходцы, давали представления уличные театры и играли шарманщики.

«Представьте, здесь тоже есть свой Пале-Руаяль, – писала она, – знаменитый своими кафе, ресторанами и магазинами. Он гораздо больше, чем наш, и на верхнем этаже разместился целый мир развлечений – кабинеты для чтения, бильярдные залы и игорные дома. Иногда я захожу обедать в тамошнюю блинную, une creperie. Особенно мне нравятся блины из гречневой муки, их называют галеты. По пути в блинную растет самое старое парижское дерево[23], его называют робиния, но на самом деле, это простая акация, только наша акация пахнет гораздо сильнее».
После занятий и работы в библиотеке Анна мчалась домой, как на крыльях. Она знала, что в пансионе ее ждет новое письмо от Аркадия Константиновича, который писал ей письма каждый день. В них он рассказывал Анне о детях, делах в больнице, о здоровье отца и дяди. Его письма были сдержанные, деловые, но Анна научилась читать их между строк, а там сквозило его беспокойство о ней и его тоска. Анна так часто их перечитывала, что помнила все письма наизусть, и часто со стыдом ловила себя на том, что, думая о погибшем муже, все чаще видит перед глазами лицо доктора Капилло.
Ей хотелось написать доктору, что и она тоже скучает, что ей недостает их бесед, но вместо этого писала сухие, ничего не значащие письма.
«…Аркадий Константинович, при случае передайте, пожалуйста, господину Зоргенталю, что хотя, к сожалению, я не попала в Одессе на его концерт, орган я все же услышала. Это было в одной из самых старинных церквей Парижа St. Severin, внутри там очень красиво, витражи, арки, скульптуры святых, но самое главное там есть орган!
Я получила огромное, несравнимое ни с чем, удовольствие. Однако о его обещании я не забыла и надеюсь им когда-нибудь воспользоваться. Мой поклон ему. Недавно я узнала, что в Париж готовится к реконструкции**, старые кварталы будут сноситься, а узкие улочки расширяться, но пока никаких перемен, увы, нет. А как бы хотелось увидеть обновленный Париж!
P. S. Да, еще я хотела сказать, что в Париже много коровников и даже можно держать свиней! Представляете?***».
«Завтракаю я в пансионе, – писала Анна, – а обедаю чаще всего у папаши Трэн в маленьком ресторанчике неподалеку от Сорбонны, там подают отличные кушанья и напитки всего за двадцать су. Особенно мне нравится, как там готовят баранину с красными и белыми бобами, это очень вкусно».

Со стороны могло показаться, что пребывание Анны в Париже было сплошным праздником, однако это было совсем не так. Разнообразную и яркую парижскую жизнь она видела урывками и со стороны, так как времени на развлечения у нее совсем не было, но ей так хотелось, чтобы родные могли порадоваться за нее, думая, что она весело проводит здесь время.
На самом деле Анна вставала рано, наспех завтракала и бежала на занятия, а после допоздна, до самого закрытия, сидела в библиотеке. Зато занималась она блестяще и в университете ее уважительно называли «эта русская». Анна поставила перед собой цель, о которой никому не рассказывала, боясь сглазить: она хотела сдать экзамены экстерном и защитить диплом раньше срока. Это была сложная, почти невыполнимая задача, поэтому желающих присутствовать на защите ее дипломной работы собралось много, а в местной газете о ней даже поместили статью с фотографией, которую доктор Капилло и банкир Гурович с гордостью демонстрировали всей Одессе.
Возвращение Анны на месяц раньше срока стало полнейшей неожиданностью для всех и вызвало ликование, как среди ее родных, так и во всем больничном дворе. Все слышали об успехах своей землячки в Париже, гордились ею и с нетерпением ждали ее возвращения.
На вокзале ее встречали отец, дядя Яков и доктор Капилло с детьми. В этот раз взяли с собой и Лизу, девочка жалась к доктору, который держал ее на руках, и прятала на его груди свое испуганное лицо. Из подошедшего поезда стали выходить люди, но как ни вглядывались они в лица прибывших, Анны нигде не было видно. Никто не узнал в красивой, модно одетой молодой женщине, спускающейся по ступенькам вагона первого класса, скромную застенчивую Анну. Первым ее заметил и узнал Леня и на весь перрон раздался его мальчишечий фальцет:
– Смотрите! Вон мама! – и мальчик стремглав бросился навстречу молодой женщине. Лиза, пристально взглянув в их сторону, стала так отчаянно вырываться из рук доктора, что тот вынужден был спустить ее на землю и та, оттолкнув его, уверенно засеменила вперед.
– Лиза пошла! – ахнули мужчины разом, и поспешили за ней следом, чтобы успеть подхватить девочку в случае ее падения. Но Лиза и не думала падать, она уверенно ковыляла вперед и неожиданно все отчетливо услышали ее звонкий отчетливый крик:
– Мама!
Анна, услышав крики детей, так растерялась, что не могла сдвинуться с места. Затем она опустилась на колени прямо на перрон и, протянув руки, заключила подбежавших детей в свои объятия.
– Мои дорогие, мои любимые! – обнимая детей, твердила она. – Как же я соскучилась по вашим щечкам, как давно я не целовала ваши ручки! Вы слышали?! – подняла она к подошедшим мужчинам глаза, полные слез, – Лизонька заговорила! – Моя девочка заговорила!
– Чего же ты плачешь, дочка? – подняв дочку, обнял ее Гурович, – радоваться нужно, а ты плачешь.
– Это от счастья, Йосиф, – вместо Анны ответил Яков, украдкой вытирая выкатившуюся слезу.
– Поедемте домой, дорогая, – просто сказал доктор, поднимая ее саквояж. – Анюта приготовила в честь вашего возвращения праздничный обед, вас все уже давно заждались.
С тех пор Анна уже не покидала порог докторского дома, ставшего для нее семейным очагом, где она, наконец, обрела покой и любовь.