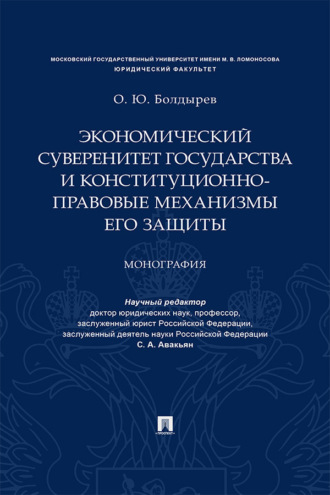
О. Ю. Болдырев
Экономический суверенитет государства и конституционно-правовые механизмы его защиты
Иные классификации экономического суверенитета
Выделенные по критерию субъекта виды экономического суверенитета можно классифицировать далее по иным критериям (рассмотрим на примере экономического суверенитета государства, которому посвящена основная часть данной работы):
1. По критерию внутреннего верховенства и внешней независимости – на внутренний и внешний (как и суверенитет в целом).
2. По критерию разграничения юридического права и реальной возможности его реализации – на формальный и фактический (см. выше).
3. По объекту/структуре214 (входящим в него элементам) – данный вопрос требует на нем остановиться чуть подробнее.
Структура (элементы) экономического суверенитета
К элементам экономического суверенитета логично относить такие, как: суверенитет в сфере внешнеэкономической политики, ресурсный, энергетический, финансовый, промышленно-технологический суверенитет и т. д., поскольку в литературе отмечается, что «в обобщенной форме экономический суверенитет характеризуют: ресурсная <…> самодостаточность; финансовая независимость; научно-технологическая и технологическая самостоятельность, самостоятельное развитие критических технологий»215, а в нормативно-правовых актах и официальных документах используются соответствующие термины, например, «технологический суверенитет» (п. 61 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации), «суверенитет финансовой системы» (п. 62 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации)216 и т. д.
При этом элементы экономического суверенитета переплетаются между собой. Так, поскольку энергетическая сфера включает и природные энергоресурсы, и электроэнергетику, и атомную промышленность, и другие составляющие (см., в частности, п. 6 °Cтратегии национальной безопасности Российской Федерации), происходит пересечение энергетического суверенитета и других элементов экономического суверенитета, например, ресурсного суверенитета. Ресурсный же суверенитет тесно пересекается с территориальным суверенитетом. Выделение «территориального суверенитета» также дискуссионно – чаще говорится о территории как о пространственном ограничении действия суверенитета, хотя в некоторых конституциях говорится о суверенитете и территории почти через запятую: (например, в ст. 1 Конституции Туркменистана217), а иногда даже используется сам термин «территориальный суверенитет» – в конституциях (ч. 3 ст. 4 Конституции Восточного Тимора218) и в литературе219. Однако ресурсный и территориальный суверенитеты пересекаются подобно кругам Эйлера-Венна, поскольку последний включает в себя также право осуществления правосудия на соответствующей территории и другие правомочия, выходящие за пределы экономического суверенитета. Территориальный суверенитет также пересекается с тем, что условно можно назвать «суверенитетом юрисдикции» (или шире – «суверенитетом правового поля») – последнее в значительной степени входит в экономический суверенитет (в части регулирования экономических отношений и рассмотрения экономических споров в национальных юрисдикционных органах), но тоже выходит за его пределы. Аналогично, внешнеэкономический суверенитет пересекается как с финансовым (в части фискальных поступлений от таможенных пошлин), так и с промышленно-технологическим, поскольку инструменты внешнеэкономической политики направлены, в том числе, и на защиту собственного производителя.
Возможны и различные классификации «подэлементов» экономического суверенитета, например, в рамках финансового суверенитета можно выделять валютный суверенитет, суверенитет в части денежно-кредитной политики, суверенитет в части бюджетных доходов (фискальный суверенитет) и расходов и т. д. Они также пересекаются. Например, деоффшоризация экономики является не только механизмом обеспечения фискального суверенитета, но и, как отмечают исследователи, например академик РАН С. Ю. Глазьев, является условием реализации суверенной денежно-кредитной политики220. Суверенитет в части бюджетных доходов и расходов тесно пересекается с суверенитетом в части внутренней социально-экономической политики (первый выделяется по критерию инструментария, второй – по функции государства). Выделяемый в литературе «таможенный суверенитет»221 можно рассматривать как подэлемент и суверенитета в сфере внешнеэкономической деятельности, и фискального суверенитета (в свою очередь, являющегося подэлементом финансового).
Такая классификация элементов экономического суверенитета является условной, поскольку, как, представляется, верно отмечают исследователи, «все элементы государственного суверенитета находятся в системном единстве. Стоит ликвидировать какой-либо из элементов, как разрушится вся система суверенитета»222.
Исходя из предложенных выше определений формального и фактического экономического суверенитета, можно предложить и другой вариант их структурирования.
Элементами формального экономического суверенитета являются:
1) право на обособление своего экономического пространства от экономических пространств иных субъектов (таможенное и т. п.), а также на регулирование условий доступа иностранных инвестиций в национальную экономику223 и на поддержку отечественного производителя224;
2) право осуществлять юрисдикционную деятельность («суверенитет юрисдикции») по экономическим спорам в пределах своего «территориального суверенитета» или иной нормативно-закрепленной юрисдикции. И обратно: неподсудность внешним юрисдикционным органам, государственный иммунитет225;
3) право осуществлять нормативно-правовое регулирование («суверенитет правового поля») экономических отношений в пределах своего «территориального суверенитета»;
4) право собственности, распоряжения ею226 и контроля за своими активами и пассивами;
5) право на наличие национальной денежной единицы и ее эмиссию;
6) право определять собственную экономическую политику (элемент можно далее дробить по видам экономической политики), включая право на введение ограничений (в рамках своей юрисдикции) деятельности субъектов экономических отношений – в целях обеспечения публичных интересов, а также на связывание права реализации ими правомочий собственника и иных экономических прав с публичными интересами;
7) право взаимодействовать с иными субъектами – носителями экономического суверенитета (государствами), определять правила этого взаимодействия, создавать с ними объединения, включая добровольную уступку им части своего экономического суверенитета, а также право выхода (выделено мною. – О. Б.) из объединений и иных международных обязательств227, включая различные инвестиционные и концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции и т. д. (далее – «международные обязательства в широком смысле слова»), ибо, цитируя знаменитую ст. 28 Конституции Франции 1793 г., «ни одно поколение не может подчинить своим законам поколения будущие»228, и сегодня, представляется, данный подход имеет смысл экстраполировать на сферу международных обязательств, принятых «предыдущим поколением».
Элементами фактического экономического суверенитета являются:
1) те же элементы, что и формального, но с заменой «право» на «фактическая возможность»;
2) максимальная самодостаточность и независимость либо сбалансированная взаимозависимость от внешних поставок, колебаний мировых цен на отдельные виды ресурсов и товаров, кризисных экономических явлений в других государствах и в мире в целом.
Хотя такой вариант классификации элементов экономического суверенитета (отдельно формального экономического суверенитета и отдельно – фактического экономического суверенитета) представляется более точным, в дальнейшем мы будем пользоваться первоначальной классификацией («ресурсный суверенитет», «финансовый суверенитет» и т. д.), поскольку именно она получила распространение в литературе и нормативно-правовых актах.
Из работ некоторых юристов-конституционалистов можно сделать вывод о различном объеме экономического суверенитета у разных государств. Они относят «наличие единой кредитно-денежной системы, самостоятельную эмиссию собственной денежной единицы и ценных бумаг» к признакам государственного суверенитета, но лишь «России и некоторых стран мира», так как многие страны Африки, Латинской Америки и Полинезии не имеют собственной денежной единицы и сами не осуществляют денежную эмиссию229. Данный тезис – спорный: если не относить указанный признак к универсальным, то получается, что у этих государств нет ограничения экономического суверенитета – просто он у них «изначально более узкий», чем у других стран, лишение которых данных функций уже следует рассматривать как ограничение их экономического суверенитета.
Подводя итог рассмотрению подходов к определению экономического суверенитета, его классификации, можно предложить следующее краткое определение экономического суверенитета (общее – безотносительно его субъекта): экономический суверенитет – это совокупность формального права самостоятельно принимать решения по всем вопросам, связанным с экономической деятельностью, а также реальной возможности экономического самообеспечения. Данное определение может быть дополнено и уточнено. Определим и экономический суверенитет государства: экономический суверенитет государства – это совокупность формального права самостоятельно принимать решения по всем вопросам своей компетенции в экономической сфере (применительно к России – по всем вопросам, отнесенным ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации), реальной возможности самостоятельного принятия решений по кругу указанных вопросов, а также и фактической возможности экономического самообеспечения.
Несколько оговорок. Первое: под экономическим самообеспечением в данном случае понимается не абсолютная самодостаточность в условиях изоляции, но сбалансированность взаимозависимостей.
Второе: перед лицом внешних субъектов первая часть определения, касающаяся права принятий решений по вопросам, отнесенным к ведению государства, может быть дополнена и вопросами, отнесенными к ведению его субъектов (если это федеративное государство) и их совместному ведению и т. п. («конкурирующей компетенции» и т. д. – в зависимости от установленной в данном государстве модели разграничения полномочий между федерацией и субъектами федерации и принятой терминологии), подразумевая, тем самым, целесообразность выступления государства перед внешними субъектами как единого целого – как совокупной воли центральных и региональных органов государственной власти. Особенно это актуально для таких государств, как Россия, где суверенитет субъектов федерации не признается (что, как говорилось выше, зафиксировано КС РФ).
Третье: как всякая попытка дать предельно краткую дефиницию сложному многогранному явлению, предложенное автором определение не является исчерпывающим и может рассматриваться в совокупности с более подробной расшифровкой экономического суверенитета, приведенной выше.
1.1.3. Ценность экономического суверенитета
Если один из вечных вопросов для экономистов – о степени участия государства в экономике, то юрист-конституционалист может сформулировать вопрос концептуально: допустимо ли (вне зависимости от доминирующих на данном историческом этапе представлений о должном участии государства в экономике) «связывание рук» последующим властям и народу и лишение их самой возможности определять степень государственного участия в экономике? Если экономисты спорят о целесообразности тех или иных мер экономической политики, то для конституционалиста главный вопрос – о сохранении в руках государства самой возможности использования тех или иных мер, т. е., вопрос сохранения суверенитета.
Однако ценность государственного суверенитета все чаще подвергается сомнению. Процессы глобализации – вызов государственному суверенитету и в целом, и особенно в экономической сфере. Но отсутствует единство в оценке того, является ли суверенитет «пережитком Вестфальской эры», или же этот вызов – серьезная угроза одной из ключевых конституционно-правовых ценностей. И, как отмечает С. Н. Бабурин, «теоретические споры вокруг проблемы суверенитета давно уже стали ключевым инструментом политического противоборства»230.
В данной дискуссии юристам-конституционалистам определиться проще, чем представителям другим дисциплин – можно оттолкнуться от конституционных норм. А конституции большинства современных государств в прямой или косвенной форме закрепляют государственный (а в ряде случаев – и народный) суверенитет231.
Народный (прямо) и государственный (косвенно) суверенитет закреплены в первой главе Конституции РФ «Основы конституционного строя» (ст. 3, 4), которой, в соответствии со ст. 16, никакие другие положения Конституции противоречить не могут. Таким образом, хотя процедура проверки соответствия одних норм Конституции РФ другим не предусмотрена, тем не менее можно говорить даже о приоритете этих норм перед, например, ст. 79 Конституции РФ, позволяющей передать часть полномочий Российской Федерации межгосударственным объединениям (кстати, по мнению О. Г. Румянцева, являвшегося секретарем Конституционной комиссии в 1990–1993 гг., норму о праве «вступать в Союз с другими государствами и в установленных случаях выходить из него, участвовать в создании органов союза и делегировать им часть своих полномочий» следовало закрепить «в качестве одной из незыблемых основ конституционного строя России…»232; действующая же Конституция России в первой главе «Основы конституционного строя» закрепляет лишь суверенитет, а возможность передачи части полномочий Российской Федерации межгосударственным объединениям устанавливается в главе 3 Конституции). Это позволяет ставить вопрос об абсолютной ценности суверенитета государства, а также о введении презумпции ценности экономического суверенитета как составляющей суверенитета в целом.
В юридической доктрине суверенитет давно относят к «конституционно значимым ценностям» (эту категорию активно использует и КС РФ). Иногда его относят даже к «ценностям высшего порядка», обеспечение которых «стало главной задачей деятельности органов всех уровней власти, должностных лиц, граждан и их объединений»233. Из зарубежного опыта заслуживает внимания предложение рассматривать в качестве ценности национальную нормативную автономию (а национальная нормативная автономия в экономической сфере – по сути, и есть экономический суверенитет государства или, точнее, его важная составляющая)234. Более того, толкование постановления КС РФ приводит к выводу, что КС РФ относит к числу «конституционно-значимых ценностей», обеспечивать которые обязан законодатель, и непосредственно «экономический суверенитет РФ»235, т. е. имеется и конституционно-аксиологическое236 доказательство ценности экономического суверенитета.
Кроме того, выше говорилось о том, что ценность экономического суверенитета обусловлена также тем, что он выступает инструментом обеспечения экономической безопасности как одного из ключевых аспектов национальной безопасности в целом («безопасности государства» в терминологии Конституции РФ); в качестве же первой цели государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности в Стратегии экономической безопасности РФ 2017 г. названо «укрепление экономического суверенитета Российской Федерации»237.
Выступает экономический суверенитет государства и инструментом реализации другого конституционного принципа – социального государства (применительно к России – ст. 7 Конституции РФ), поскольку для полноценной реализации последнего требуется сохранение в руках государства суверенного права использовать весь спектр инструментов социальной и социально-экономической политики. Ниже будут приведены примеры ограничения экономического суверенитета государства, ставящие под угрозу возможность полноценной реализации принципа социального государства (например, предоставление государству кредитов под условие сокращения социальных расходов или принятие в рамках ВТО обязательств по открытию рынка услуг в области здравоохранения, образования, что косвенно влечет так называемую «приватизацию публичных благ»). Экономический суверенитет и социальное государство – темы, традиционно рассматриваемые раздельно, хотя тесно связанные. Вся дискуссия об инструментах социальной (социально-экономической) политики уместна лишь в случае сохранения в руках государства самого суверенного набора данных инструментов.
Таким образом: если в политических науках вопрос о ценности суверенитета – дискуссионный, то с конституционно-правовой точки зрения, суверенитет (включая экономический суверенитет как один из его ключевых элементов) является безусловной ценностью238, частью которой в определенных ситуациях государства могут поступаться, но при этом принципиально важным является выполнение следующих условий:
1) фиксация самого факта существенной уступки части суверенных полномочий иному субъекту (подробнее о «существенности» говорится в третьей главе данной работы);
2) наличие четкого обоснования необходимости поступиться одной ценностью (частью суверенитета)239 – ради иной, высшей ценности, ради достижения стратегических целей общества и государства, в том числе безопасности государства и общества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина и т. п.;
3) особого внимания заслуживает вопрос о степени долгосрочности принимаемых обязательств – с выделением тех из них, что принимаются на длительный период (например, в два или более раза превышающий срок полномочий органов власти) или, тем более, бессрочно;
4) отдельно должен выделяться вопрос о механизме и степени затрудненности выхода из международного обязательства (а применительно к международным обязательствам, имеющим экономическое содержание, еще о цене выхода – какие материальные потери в виде, например, прямых компенсаций ущерба другим участникам обязательства государство должно понести в ходе выхода из договора): недопустимы ситуации, когда после ратификации договора остаются неясными возможность и степень затрудненности выхода из обязательства, его механизм;
5) процедура принятия решения по вопросам, связанным с существенной и, тем более, с долгосрочной уступкой части суверенитета (части суверенных полномочий) должна соответствовать масштабу и цене вопроса и быть усложненной по сравнению с процедурой принятия текущих решений.
Эти вопросы будут рассмотрены в данном исследовании ниже.
1.2. Междисциплинарные подходы и анализ экономического суверенитета
Проблематика настоящего исследования – междисциплинарная, причем как лежит на стыке с другими общественными дисциплинами, так и требует межотраслевого подхода в рамках ее правового решения. Однако именно в рамках конституционного права представляется возможным поставить некоторые наиболее фундаментальные концептуальные вопросы.
Можно отметить как минимум два конституционно-правовых аспекта. Во-первых, сама категория «суверенитет» является объектом конституционно-правового исследования, и хотя термин «экономический суверенитет» пришел из экономической науки, он обозначает один из видов суверенитета как объекта конституционно-правового анализа (что не исключает анализ экономического суверенитета и как международно-правовой категории240, а, например, таких его элементов, как «фискальный суверенитет» и «финансовый суверенитет» – как финансово-правовых категорий241). Таким образом, вне зависимости от того, носят ли угрозы экономическому суверенитету конституционно-правовой характер или нет, а также используются ли конституционно-правовые или иные механизмы его обеспечения, данная проблематика в любом случае представляет конституционно-правовой интерес.
Во-вторых, в данном исследовании, хотя и показан широкий спектр механизмов обеспечения экономического суверенитета, тем не менее основной акцент будет сделан на конституционно-правовых механизмах, менее изученных и не исследовавшихся в систематизированном виде в юридической науке.
В ходе работы потребовалось обращение к экономической литературе, в особенности по институциональной экономике (как в рамках «классического институционализма», делавшего акцент на правовых, социальных и иных факторах242, так и в рамках неоинституционализма, так как из него вышло междисциплинарное направление «конституционная экономика»243); политической экономии (в силу необходимости анализа «политического контекста» в конституционном праве244); мировой экономике (рассмотрение внешних угроз экономическому суверенитету); по экономической безопасности, макроэкономике (в том числе внешнеэкономической политике) и т. д.
Возникает задача выбора парадигмы, в рамках которой анализ проблем обеспечения экономического суверенитета будет наиболее плодотворным. Очевидно, что в настоящем исследовании выбор может идти между чистым конституционным правом и смежными направлениями. Речь идет о двух группах направлений:
1. Направления, смежные с конституционным правом, рассматриваемые рядом авторов как его часть, и возникшие в связи с процессами глобализации, интеграции, стирания граней между конституционным и международным правом245 (например, И. А. Умнова отмечает «конвергенцию» конституционного и международного публичного права246, а Н. Б. Пастухова ставит задачу «оценки степени взаимообусловленности и взаимопроникновения международного и конституционного права в современном мире, а также процесса изменения представлений о суверенитете»247).
Направления, возникшие на стыке юридической (в частности, конституционно-правовой) и экономической наук, отмежевывающиеся от классических в отечественной традиции «конституционных основ экономики» (понимаемых как раздел конституционного права и имеющих близкие аналоги в праве других государств, например «конституционное хозяйственное право» в Германии248) и постепенно претендующие на замещение собой «конституционных основ экономики» (в силу этого они будут рассмотрены подробнее).


